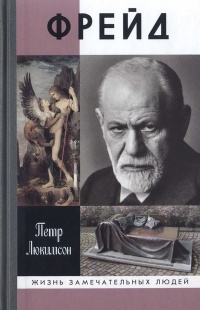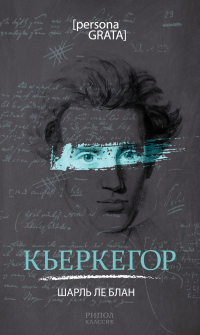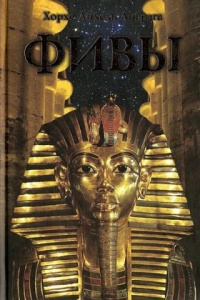Можно сказать, что до Руссо в системе публичного высказывания не было соответствующего этой системе самостоятельного «желания» – в частности, это явилось причиной того, что предшественники и современники Руссо, также публиковавшие труды в ряде случаев, с точки зрения цензуры властей и церкви, более чем спорные, в то же время ладили с представителями светского общества и государственным режимом гораздо лучше, нежели он сам, и позволяли предполагать за ними некоторую подобающую светскому взаимодействию attitude, пусть даже из-за философского призвания реализованную ими не в полной мере. Напротив, по итогам наиболее известных и громких публикаций Руссо всем, в том числе представителям знати, ранее способствовавшим его карьерному продвижению, стало совершенно ясно, что он не пригоден ни к чему, кроме как к написанию скандальных и будоражащих публику произведений, вследствие которых он официально был объявлен публицистом, представляющим общественную опасность. В то же время скандал локализовался не в последствиях массового чтения этих произведений, а в области акта, выражающего не столько частное вольнодумство самого Руссо, сколько появление соответствующего этому акту особого измерения высказывания. Именно учреждение последнего было воспринято как наивысшая дерзость, за которой немедленно последовало изгнание Руссо из Франции.
В этом смысле следует утверждать, что обстоятельствами, способствовавшими изгнанию, выступили не сами произведения как таковые, хотя бы они и провоцировали раздражающие для властей «толки» в кьеркегоровском смысле, поскольку читатели обсуждали не столько сам по себе дерзкий и провокативный акт публикации, как это было принято в светском обществе, сколько покупались на содержание изложенных Руссо размышлений, образовывая на их основе собственное мнение по поводу вычитанного. Сегодня подобная практика восприятия опубликованного текста кажется более чем естественной, так что складывается впечатление, будто бы ради этого субъект – исторически ставший после Руссо субъектом обобщенной педагогики, с ранних лет пошагово приучающей к ежедневному восприятию публичных текстов, – свое ежедневное чтение предпринимает.
На деле здесь наличествует описанная Деррида в «Грамматологии» фигура преимущества «второго перед первым» в смысле неправильно оцениваемого с нынешних позиций порядка очередности явлений. Так, видимые сегодня первоначальные и буквальные цели чтения (в первом ряду из которых стоит побуждение примерить прочитанное на себя и свои взгляды) в эпоху самого Руссо значительно отставали по всем социальным позициям от восприятия и оценки в высшем обществе самого факта публикации. Последний всегда имел своим главным следствием не столько буквальное обсуждение изложенных в тексте идей, сколько происходящую в светских кругах медитацию над самими обстоятельствами акта высказывания и сопутствующими ему побуждениями опубликовать текст именно в данный момент, в данном виде и под соответствующим авторством. В этом смысле неудивительно, что с момента, когда литературная слава Руссо укрепилась, а репутация, напротив, пошатнулась, его светские покровители и завистники одновременно и в значительно большей степени заинтересовались перспективами его собственной дальнейшей судьбы, нежели содержанием и цензурной судьбой его произведений. Любопытно, что и сам Руссо как будто полностью усваивает точку зрения своих покровителей в этом вопросе, подробно описывая стремительные изменения в своем социальном и карьерном положении, наступившие после публикации «Эмиля» и «Общественного договора», но поразительно мало касаясь самого свойства и причин настигшей его авторской славы, с точки зрения оценки читателей, благодаря которым она состоялась и которые извлекли из его писаний нечто воодушевляющее.
Существовали, разумеется, иные общественные группы, для которых вопрос содержания прочитанного, равно как и вытекающий из него преобразующий настроение читателя импульс, также должен был оказываться на первом месте – прежде всего, это клерикалы, представители конфессий. Принято считать, что Руссо вызвал их повышенное внимание, затронув ключевые для их положения вопросы функционирования церкви и задев в своих трудах религиозные чувства их паствы. Но реальной причиной негодования церковной верхушки было прежде всего то, что в области задействованного самим Руссо режима высказывания он был наиболее клерикалам близок в смысле определенной политики применения акта высказывания. Это не означало, что высказывание Руссо напрямую должно было напоминать проповедь – на деле вполне почтенный в том числе в светских кругах жанр. Сам по себе жанровый вопрос имел здесь второстепенное значение, поскольку речь шла прежде всего о требовании отказаться от восприятия публикаций и положения их авторов в духе оценки их attitude и воспринимать их содержание напрямую, при том, что ранее на предъявление такого требования могла претендовать только церковь.
Тем самым, освоив практику обхода вопроса attitude, вся новоевропейская публицистика, включая самую что ни на есть современную и секулярную, сделав ставку на «первый», содержательный тип чтения, оказывается гомологична церковной политике в отношении функционирования высказывания, публикации и чтения. Именно это обеспечивает создаваемый публичным режимом речи характерный накал и потенцию к обсуждению, ведущему зачастую к попыткам перевести его в плоскость сильнейшего морального и даже физического воздействия на оппонентов и противников – момент, неизменно вызывающий у самих авторов публикаций удивление[40].
В то же время уловить продолжающуюся действенность фигуры «второго» типа чтения перед «первым» можно и сегодня, и наиболее подходящим примером являются соцсети, где, как хорошо известно, бесконфликтно и непроницаемо друг для друга сосуществуют два практически несмешиваемых слоя пользователей, один из которых представлен «низами» – теми, кто всерьез и азартно обсуждает происходящее в мире, публикует петиции, расследует, вскрывает и обличает общественные и государственные изъяны, а также выступает с признаниями и публикациями личных историй, нередко способствующих борьбе с этими изъянами. Другой регистр пользователей оказывается в положении «верхов» как тех, кто наблюдает за происходящей в низах работой публикационной искренности, тщательно регистрируя, в какое именно положение авторы себя ставят очередным обнажением намерения высказаться, и формируя мнение о произошедших вследствие этого изменениях в их attitude.
Для «верхов» в этом смысле не существует вопроса о «содержании акта», они не солидарны ни с кем из тех, кого они читают и на кого подписаны, но они не являются также полностью аполитичными и не заинтересованными – речь идет об особой активности, аналогичной активности представителей классического новоевропейского светского общества, не спешивших с оповещением о своих собственных ангажированностях (также несомненно имеющих место), но прежде всего наблюдающих за трансформациями символического положения лиц, каким-либо образом обнаруживших себя в процессе реализации «желания высказаться».