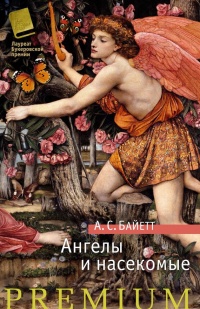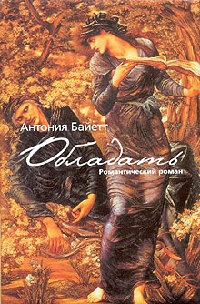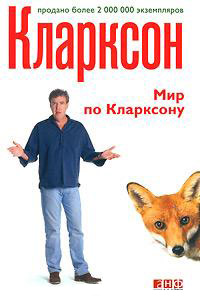Не то же ль Имя встанет за амебой — Созданием-желудочком простейшим, Что разом — сердце, рот, живот и ножки — Живет и чувствует… Сильней же упрости — Как жизни чувствующей в нем не станет.[75]
«Да, ежели пойти еще дальше, вглубь, так глубоко, как заблагорассудится и как настаивает мой Давид Сляк, — писал он, — то найдешь там (и в это верую уже я!) творящий разум, действующий как материя, но не производный от материи. Будучи запущенными, шары находятся в движении, соударяются друг о друга и могут разбегаться по столу в самых разных направлениях; но я верю в кий, чей удар направляет рука». Весь мир возвещает одно Имя, как подлинно ведал истинный Давид; весь мир, включая даже больные воспаленные клеточки моего тела. В самой глубине — что-то простое, нераздельное, безразлично-разумное, живоносное!
Мое самое истинное, лучшее состояние — это когда я приближаюсь…"
* * *
Она положила ладонь на ручку двери и вошла без стука. В комнате было темно, но как-то слегка, дымчато-темно; занавеси не задернуты, и окна — парой смутных, освещенных звездами отверстий. Всюду вещи, на стул небрежно брошена накидка, на полу дорожный баул; за письменным столом что-то непонятное, горбатое, к ней спиной, с серебристым венчиком, ее брат. "Ты работаешь? — сказала она. — Прости, не буду мешать… — И тут же: — Роберт, нельзя писать в темноте, это вредно для глаз". Он встряхнулся всем сильным своим телом, точно большой тюлень, поднявшийся из глубин, и глаза его, темные впадины под кудлатыми бровями, невидяще повернулись в ее сторону. "Я не хотела тебе мешать", — снова сказала она, терпеливо ожидая, когда он вернется в страну живых. "Ты и не мешаешь, дорогая Сарианна,[76] — мягко проговорил он. — Я немного задумался о Декарте. И наверное, давно уж пора ужинать". Они пошли по коридору, мимо слуги, разносящего свечи. "Там ждет одна дама, — сказала Сарианна извиняющимся тоном, — на голове у нее целый птичий вольер… Она обожает твои стихи и желает поступить в Общество почитателей Браунинга".[77] — "Il me semble que ce genre de chose frise le ridicule",[78] — прорычал он; она же улыбалась в душе, зная, что, будучи представлен ужасной миссис Миллер, он будет сама вежливость и приятность.
* * *
И действительно, на следующий день на террасе гостиницы он вполне чарующе беседовал с миссис Миллер, облаченной в корсет и турнюр. Поклонница просила написать что-нибудь в ее именинном альбоме, который почтили уже своими записями сэр Лейтон и Томас Троллоп;[79] ее умилило, что он не мог вспомнить, на какой из двух дней полагается его точный день рождения — 7 или 9 мая, и пришлось отнестись к Сарианне, та, конечно же, знала. Он успел разжиться чернилами получше и сделал теперь список подходящего стихотворения, как имел обыкновение, микроскопическим почерком: "О некоей звезде мне лишь известно…"[80] — и прибавил с обезоруживающей улыбкой: "Ну вот, всегда я всем пишу одно и то же; разница только в размере букв. Надо мне быть изобретательнее". Миссис Миллер была в полном восторге. "У вас, должно быть, изумительно отчетливое зрение!" — проговорила она воодушевленно, тут же скрывая под надушенной кожаной обложкой "Мою звезду" и предшествовавшую запись в венке акварельных фиалок. Шляпа миссис Миллер была поистине величественна: вкруг тульи шли прицепленные крылья настоящих птиц; поэт принялся с восхищением, подробно расспрашивать о смысле этой композиции, где сова, ястреб, сойка и ласточки как бы окружали целое чучело голубки на возвышении. Завязался живой разговор, в котором проявились отменные знания поэта о парижских журналах моды и причудах тамошних модисток. Его общественное "я" обладало в своем роде той же всеядной и несколько безразличной любознательностью, что отличала его героев — покойную герцогиню, Каршиша, Лазаря и Кристофера Смарта. Ему невдомек было, какое раздражение вызывала эта его черта у Генри Джеймса, который нарек ее буржуазной и чье вымышленное альтер эго — рассказчик — признавался, что чувствовал отчаяние от того, как поэт "любит один предмет — по крайней мере, на взгляд наблюдателя — точно так же, как любой другой". К женщинам обращался он в той же манере, что и к мужчинам, жаловался этот глубоко обиженный повествователь; со всеми мужчинами толковал на одинаковой ноге, не делая разницы между умным и посредственным собеседником. Был он шумен, жизнерадостен, словообилен. Мнения, которые он высказывал, были неизменно благоразумны, истинные же его представления пребывали в полной тайне от окружающих. Компанией неотвязной миссис Миллер он казался вполне доволен, принялся рассказывать о предполагаемой поездке в гости к семейству Фишвик, которое поселилось на время в Апеннинах. Заслышав слово "Апеннины", миссис Миллер усиленно закивала птичьей своей шляпой и немедля продекламировала выразительно, чуть подвывая: