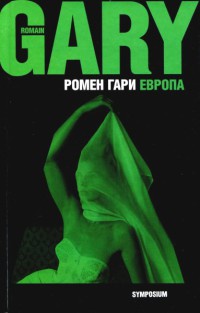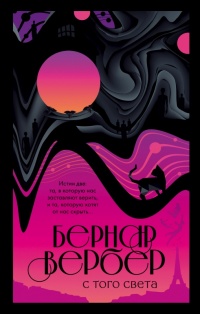— Зато эти получают удовольствие, заставляя страдать ближнего, — продолжал Юнио, вяло отвечая на приветствие.
— Они встречают тебя как героя и сравнивают со вторым принцем, которого зовут так же, как тебя.
— Тот, кто сегодня заискивает перед тобой, завтра может тебя расстрелять. Уверяю тебя, в тот день, когда мне придется спасаться бегством, я не стану делать это в обществе подобных типов. Я даже Габору не позволю себя сопровождать.
— Я думал, вы друзья.
— Нет, мы просто товарищи по оружию. Габор — та цена, которую мне пришлось заплатить за возможность пользоваться доверием нацистов. Его обязанность — следить за мной (хотя сам он считает, что я об этом не знаю), а я за это поручаю ему всю грязную работу. Создается впечатление, что я его выдрессировал, но это лишь видимость. Когда его сделали осеменителем, я надеялся, что избавился от него раз и навсегда. Но его сперма оказалась не столь драгоценной, как думали немцы и он сам, так что его снова отправили ко мне. Он вернулся, поджав хвост, лучше и не скажешь. Просто все эти годы я скрывал свою неприязнь к нему. Нет, я собираюсь бежать один, поэтому и решил наконец научиться водить машину.
Интонация голоса Юнио была столь же странной, как и его слова. Он как будто повторял заученный наизусть план поведения на тот случай, когда дела пойдут плохо.
— И куда ты намерен бежать?
— Пока не знаю, но, вероятно, в какой-нибудь далекий уголок Африки или Азии. Важно найти место, где ни я не буду понимать местных жителей, ни они меня. И пока я там буду жить, я не собираюсь учить их язык или обычаи, потому что ищу именно уединения. Я презираю созданный нами мир, даже теперь, когда мы его разрушили.
Еще одна компания фашистов подняла руки в приветственном жесте, завидев нашу машину.
— Porci, corogne fasciste![65]— воскликнул я.
— Если тебе легче, когда ты кричишь, кричи, но постарайся, чтобы никто из этих бесноватых тебя не услышал, потому что в противном случае даже я не смогу им помешать повесить тебя на фонаре. А если с тобой что-нибудь произойдет, уверяю тебя, Монтсе исполнит свою угрозу.
— О чем ты подумал, когда она рассказала тебе, что ей приказано тебя убить?
— Ни о чем, но на душе у меня стало тяжело. Когда первое ощущение прошло — вот тогда я кое о чем подумал.
— О чем именно?
— О том, что если уж суждено умереть, то лучшего человека, чем она, который бы нажал на курок, не найти. Ведь не все равно, стреляет в тебя ангел или дьявол, ты не согласен? А потом мне пришло в голову, что я не знаю человека отважнее ее. И наконец я вспомнил о тебе… и почувствовал огромную зависть: ведь твоя жена подарила мне жизнь, чтобы я в обмен спас твою, — полагаю, это доказательство ее любви к тебе.
— Почему же тогда она не хочет спрятаться вместе со мной, пока все не успокоится?
— Именно потому, что она отважная женщина.
И тогда я вдруг обратился к нему с необычной просьбой.
— Я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал, — сказал я.
— Ты о чем?
— Если Монтсе схватят… Мне бы не хотелось, чтобы она страдала, пусть у нее будет легкая смерть…
Юнио взглянул на меня с нескрываемым удивлением:
— Ты предлагаешь мне убить ее в случае, если она попадет в руки к немцам?
— Ты — единственный из всех моих знакомых, кто сможет с ней видеться, если ее арестуют. Я не хочу, чтобы этот зверь Капплер к ней прикасался. Мне невыносима мысль о том, что последним ее воспоминанием может стать паяльник, сжигающий ей подошвы.
— Ты понимаешь, что ты говоришь? Ты снова перевязываешь рану прежде, чем она появилась. В действительности тебя заботит не то, что может произойти, а страдания, которые причинила бы тебе ее смерть, — с осуждением произнес он.
— Все гораздо проще, — сказал я.
— Разве? Давай-ка вспомним наше положение. Монтсе подарила мне жизнь, чтобы я взамен спас твою, а теперь, когда оба мы в безопасности, у тебя появились такие мысли. Боюсь, это совсем не просто.
— Забудь.
— Разумеется, я забуду об этом разговоре, и, надеюсь, ты ради своего же блага сделаешь то же самое. Тебе придется некоторое время провести взаперти, одному, и не думаю, что ты сможешь долго там продержаться, если будешь думать о подобном.
— Кто-нибудь сможет ко мне приходить?
— Тебе будут приносить еду раз в неделю.
— Это будет какой-то определенный человек?
— Да, конкретный человек. Нужно соблюдать меры предосторожности.
— А Монтсе не может стать этим человеком? Мы были четыре месяца в разлуке — и, быть может, пройдет еще столько же, прежде чем союзники возьмут город.
— Меня самого удивляет, что они этого до сих пор не сделали, — признался он. — Хорошо, я постараюсь, чтобы еду тебе приносила Монтсе.
— Благодарю.
— Тебе не за что меня благодарить, я поступаю так, заботясь о своем будущем. Приказ о твоем задержании за подписью Капплера откроет тебе множество дверей, когда власть в городе сменится, и то же самое ждет Монтсе, ведь она теперь «работает» на Сопротивление. Если меня арестуют при попытке к бегству, я надеюсь, что вы за меня заступитесь.
— Должен ли я знать еще что-нибудь?
— В доме есть радио и кое-какие книги. Читай и отдыхай. Ставни держи закрытыми, а если тебе вдруг по какой-то причине придется их открыть, постарайся не высовываться из окна. И конечно же, никому не открывай дверь — только надежным людям. Если позвонит кто-то, кого ты не знаешь, осторожно загляни в глазок и дождись, пока этот человек произнесет пароль: «Casalinga»[66]. Как только будут новости, я дам тебе знать. Чуть не забыл: в бардачке лежит связка ключей. Возьми их.
Остаток пути мы ехали в молчании.
Добравшись до пункта назначения, мы крепко и долго жали друг другу руки. В тот момент я и представить себе не мог, что больше мы никогда не увидимся.
Ступив на тротуар, я почувствовал, что меня мутит. Прямо перед входом в дом номер 23 по виа деи Коронари меня стошнило. Потом я торопливо поднялся по лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек, чтобы меня никто не заметил.
11
Если бы мне предложили описать время, проведенное мною в заключении, в нескольких словах, я бы сказал, что март стал тревожным месяцем, полным драматических событий, а апрель и май просто голодными. Мое положение было частью общего положения дел. Рим играл роль военного трофея, который союзники желали заполучить, а немцы — удержать любой ценой. Жертвой происходящего стал народ: на их глазах бомбардировки союзников уничтожали запасы продовольствия вне зависимости от того, кто их поставлял — Красный Крест или сам Ватикан. Союзники рассуждали так: если в Риме голод — значит, его жители поднимутся против оккупантов. Немцы же считали, что голод и бомбардировки создают у населения отрицательный образ союзников. Поэтому как одни, так и другие брали город измором; а когда продуктов осталось всего на несколько дней, нацисты снова организовали рейды за рабской рабочей силой. Причем они руководствовались и другим соображением: отправляя задержанных на север Италии или в Германию, они избавлялись от тысяч голодных ртов.