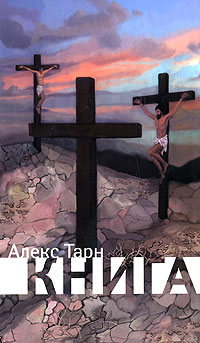Фолькер заметил, что я будто сбросил с себя тяжкий груз. Никаких объяснений не потребовалось.
— После операции я приглашу тебя в путешествие.
— Посмотрим, найдется ли у меня время.
Мало кто ковылял навстречу операции таким окрыленным, как я. Поврежденное колено? Пустяки. Последствия общего наркоза? Они меня не тревожили. В Штраубинге, сидя напротив знаменитого хирурга, я сиял: «Если вы обнаружите еще что-то нехорошее, исправьте заодно и этот дефект». Клиника хирургии коленного сустава была не совсем обычной. Располагалась она над супермаркетом. Операционный этаж напоминал последний сборный пункт фольксштурмистов.[261]Рано утром хромающие, шаркающие калеки являлись в регистратуру. Костыли «на потом» они должны были принести с собой, вместе с личными вещами. Каждый из увечных получал — по очереди — порядковый номер, который тут же наклеивался и на костыль. Ожидая рутинного хирургического вмешательства, пациенты обменивались лишь обрывками фраз («Моя жена остановилась в «Штраубингер хоф»». — «Mi hanno mandato da Cortina»[262]). Потом в тесных кабинках им давали успокоительный напиток с привкусом абрикосового ликера, и перед глазами у них все расплывалось. Человек приходил в себя — уже как член маленького сообщества «заштопанных» — в просторной больничной палате. И с удивлением видел свою чисто выбритую ногу, лежащую на наклонной доске. Кровь из раны капала в специальный мешочек. Взглянув на соседнюю кровать, он узнавал какого-нибудь теннисиста-профи или, скажем, Эльбера Джоване,[263]привычным жестом встряхивающего подушку. Другой больной протягивал этому знаменитому футболисту, еще не совсем отошедшему от наркоза, бумажную салфетку: «Автограф, пожалуйста!» И бразилец царапал на салфетке свое имя. Когда процесс поэтапного выхода из-под наркоза заканчивался, пути обычных пациентов и футбольного миллионера вновь расходились. Но каждому еще предстояло свыкнуться с титановой клипсой в колене.
Наутро после бессонной ночи, проведенной над супермаркетом, Фолькер рассматривал охлаждающий аппарат, закрепленный вокруг моей ноги.
Он и сам едва передвигал ноги. Его лишь несколько дней назад выписали из больницы после тяжелой операции, связанной с кишечной инфекцией. Штраубингские сестры жалостливо стискивали руки, видя, как мы вдвоем покидаем клинику. С помощью костылей на сей раз передвигался я. За мной, хватаясь за стены, шел Фолькер:
— У тебя уже лихо получается.
— Боюсь, как бы костыли за что-нибудь не зацепились.
— А ты смотри, куда ступаешь.
— Ты меня подхватишь, если я упаду?
— Машина припаркована прямо перед входом.
Выпал снег. Настроение у нас было великолепное. В отличие от других покидавших клинику людей, стонущих и охающих, мы смеялись, искренне наслаждаясь дорогами Нижней Баварии. Загипсованная нога торчала из открытого окна. Лицо Фолькера казалось круглым пятном, втиснутым между шапкой и шарфом. За рулем он теперь сидел на трех пенопластовых кольцах:
— Так мы и завоюем мир!
— Мне кажется, наше возвращение смахивает на русский поход Наполеона.
— Есть сейчас новая, по-настоящему значимая литература?
— Попадается кое-что. Осторожнее с костылями!
— Какая земля сегодня просторная, белая, чудная…
— Я всегда воображал, — сказал он однажды, — будто знаю о людях все, будто я умней, чем другие. Что и сделало меня одиноким. Остерегайся такого высокомерия.
— Как может человек, подобно тебе, всегда оставаться открытым?
— Так само собой получается. Но мне не хватает необходимых для этого качеств — уверенности в себе и легкости.
— Ты несчастлив?
— Вовсе нет.
На лице у него проступили скулы. Одряхление Фолькера меня пугало, но затормозить этот процесс я не мог. Дни его рождения — пятьдесят седьмой, пятьдесят девятый — были победами.
В нем что-то изменилось. Он теперь тщательнее, чем прежде, следил за своим внешним видом. По воскресеньям чистил всю имеющуюся в наличии обувь. Купил новый пылесос и каждый вечер гладил рубашку назавтра. Подобные хлопоты отвлекали его от дурных мыслей? Или он приводил дом в порядок «на всякий случай»? Он расстался с книгами, читать которые больше не собирался. Меня тронуло, что оставшиеся книги Фолькер переплел заново: романы Роберта Вальзера, дневники Поля Валери, двадцатишеститомную энциклопедию Брокгауза 1896-го года. «Возьмись за другой конец!» Мы передвинули письменный стол к окну. Однажды он представил мне уборщицу-польку, которая оттирала дверные рамы.
И поддразнил ее фразой: «Мир — это интриганство. Человек всегда должен быть во всеоружии».
Часто ли он в одиночестве дирижировал радио-оркестром, не знаю. Думаю, часто — в тапочках, ночами; возможно, даже кричал на музыкантов. О стереофонической передаче звука в соответствии со стандартами теперешней Hi-Fi электроники в те годы, конечно, и речи не было. Когда Фолькер, больной, лежал в постели, а я варил ему кашу, или когда он гладил себе рубашки, возле его подушки либо на гладильной доске стоял транзисторный приемник (величиной с ладонь): Петер Слотердайк[264]рассуждал о выведении оптимальной человеческой породы, Мартин Вальзер и Гюнтер Грасс спорили о будущем немецкой нации.
Невероятно, но благодаря этому писклявому аппарату Фолькер был в курсе ВСЕГО:
— Маннгеймская полиция задержала бежавшего из тюрьмы заключенного, его обнаружили в стиральной машине.
— В стиральной машине?
— Барабан из нее он вынул.
Телевизор работал, как правило, в те часы, когда Фолькер заполнял картотеку по творчеству Эдгара Энде. Телевизор — более примитивный «светский салон», чем радио. Фолькер взглядывал поверх очков на экран главным образом для того, чтобы найти повод для злости или еще раз убедиться в собственной правоте. С его точки зрения — точки зрения маргинала, — все рекламные ролики, агитирующие за «кабрио» или продукты Lifestyle, представляли собой мыльные пузыри. Ангеле Меркель, восходящей звезде ХДС, не удавалось убедить обитателя мюнхенской мансарды в своей необходимости для Германии или в том, что она — блестящий политик. Лидер немецких профсоюзов фрау Энгелен-Кефер,[265]участвуя в круглом столе на тему тарифных ставок, как мы поняли, добивалась замораживания зарплат. На экране можно было увидеть многоликую жизнь нынешней, объединенной Германии. Но Фолькер прерывал работу, только когда показывали старые кадры: публичные выступления Вилли Брандта, Карла Шмитта,[266]а еще лучше — бундеспрезидента Густава Хайнемана[267](«Вот кто был настоящим демократом!»). Симпатична ему была и бодрая, запутавшаяся в эротических приключениях американская президентская пара — Билл и Хиллари Родэм Клинтон. «Оба приводят что-то в движение, особенно она».