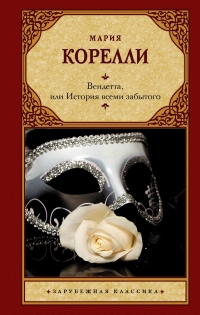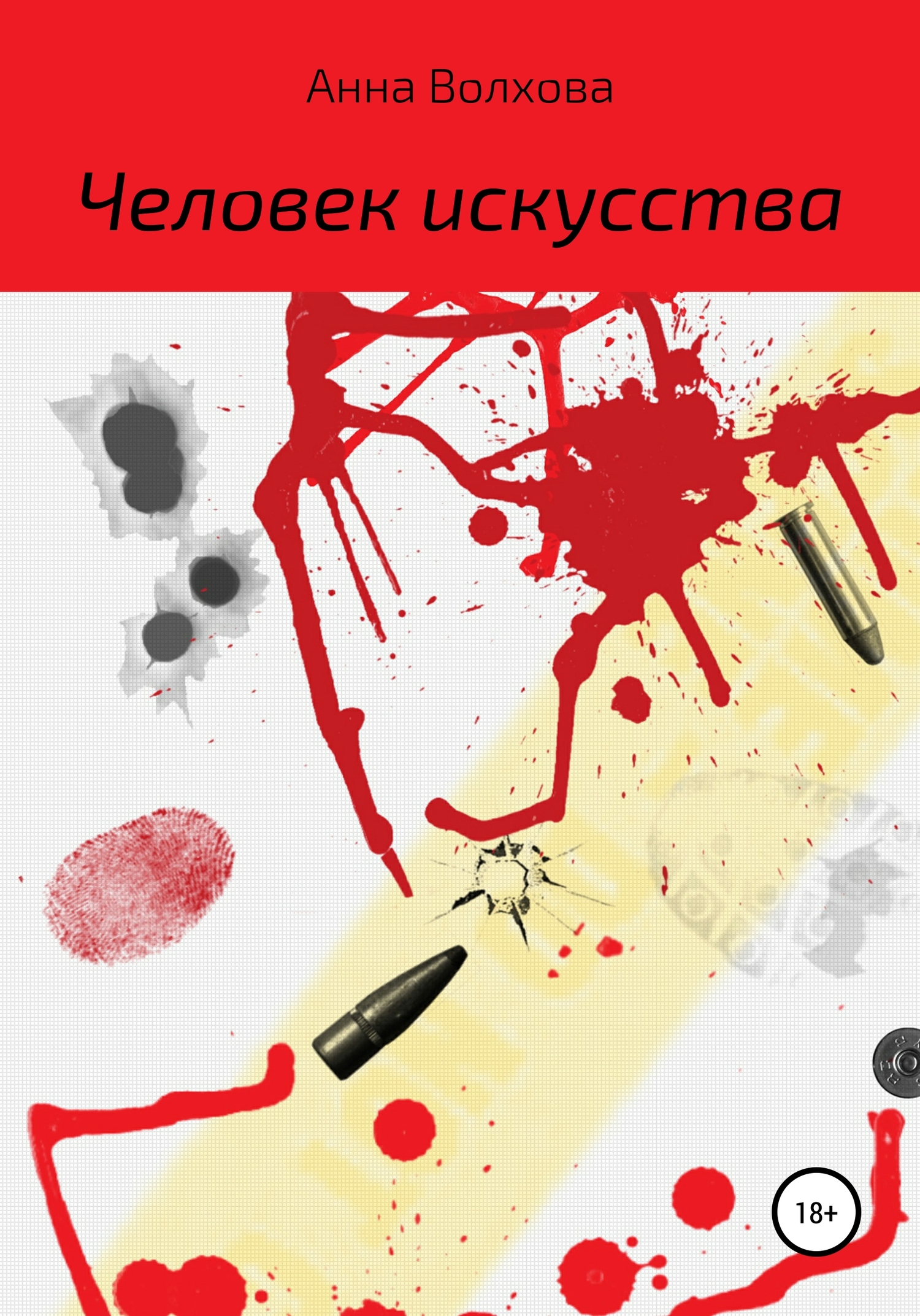трава – и туман, поднимаясь на лапы, начинал двигаться к нашему дому; Аришка подбегала ко мне, прилипала к стеклу, и мы с ней не замечали, что наш маяк давно уже затонул в мягких объятиях мифического великана…
Вечером, укладывая спать Аришку, я рассказывала ей какую-нибудь тут же выдуманную сказку, и в том месте, где с героями происходило что-то опасное, Аришка садилась на постели и тревожно спрашивала, а па приедет, и, если Димон отсутствовал, я все равно говорила – уже приехал, и она засыпала под счастливый конец сказки, когда все опасности оказывались мнимыми, а маленькие мужественные герои, победившие страх и преодолевшие все трудности, оказывались настоящими победителями… И я могу и сейчас сложить на диване под одеялом подушки так, будто там лежит уставший после работы мой любимый муж. Которого у меня, как выяснилось, никогда не было. Как сказал Анатолий: «Вы ему никто».
Но и дивана в квартире нет: его года три назад увезли в деревню и поставили в гостевой дом.
Сама я ничего не боюсь. Даже бедности. Буду работать, пока смогу. Я и так работаю всю жизнь и никогда не была «буржуазной женой», что так бесило Димона: он хотел, чтобы его супруга торчала в салонах красоты, делала подтяжки лица, одевалась из бутиков, устраивая ему скандалы, чтобы он купил ей новое норковое манто или бриллиантовые серьги. А я не носила ни золота, ни натурального меха, не ела и не ем мяса и ни разу в жизни не воспользовалась услугами косметического салона!
Проблема в Аришке.
* * *
И по документам я ведь не являюсь вдовой: черный цвет траура вместе со всем остальным украла у меня Алла Беднак. Точнее, украли они. Шефом этой ловкой операции был Анатолий, он и написал поддельное заявление в суд от имени Димона и дал взятку его представителю, правда, главная исполнительница спектакля оказалась ему не совсем чужой: как выяснил Юрий, фамилия нынешней жены Анатолия… Беднак! И Анатолий никогда не был военным, дважды судимый, он в девяностые занимался бизнесом – продавал деревянные поделки заключенных.
Иск пятинедельной вдовы судья Данилов Илларион Борисович, брат которого, бизнесмен, был знаком с Инной Борисовной, полностью удовлетворил. И, думаю, благодарностью безутешной вдовы остался доволен. Ей, к ее законной половине, переходила и моя супружеская доля, и, что самое для меня страшное, переходила доля квартиры, в которой второй год лежала, отвернувшись к стене, исхудавшая как скелет моя дочь.
Но почему, почему я до сих пор жалею Димона?!
Может быть, душу Димона убил тот прочитавший все его рассказы и повести главный редактор – выстрелом, жестоким приговором: «Все это – напрасно потраченная жизнь»? Не тогда ли у Димона заболела рука? Но ведь он был не прав! Я и сейчас повторю: Димон, ты был талантлив, только не сумел выбрать свою колею, ведь, несомненно, ты мог стать выдающимся актером, если бы не твой страх, что на сцене ты будешь смешон из-за маленького роста, – тебя влекли драматические, а не комедийные роли – и если бы не проекции образа отца, заставившего тебя следовать не своей, а его дорогой, и образа прадеда-купца, который погубил в тебе все ростки духа.
Бедный Димон.
* * *
Через несколько дней после решения суда мне приснилось, что он мчится на машине в деревню, чтобы проститься с домом. Димон любил его; на стенах висели мои пейзажи, а его маленький кабинет на втором этаже, который он все-таки выторговал, чтобы быть к нам с Аришкой поближе, был оформлен моими дружескими шаржами на него самого: к каждому дню рождения Димона я делала или новый рисунок, или дарила ему картину… И вот в моем сне, войдя во двор, Димон вдруг падает на асфальтированную дорожку и с ним начинает твориться что-то странное – точно ноги и руки его выворачивает кто-то невидимый, Димона корчит от боли, и я понимаю, что он испытывает там страшные мучения из-за того, что сделал против нас с Аришкой.
Я прощаю тебя, Димон.
Еще через несколько ночей я снова увидела во сне Димона. Там же, в деревне, он выходит из дома, крикнув кому-то: «Ждите, я к вам вернусь!» – идет по саду, садится в белую машину и, обернувшись, смотрит на меня – взгляд его совершенно пуст, и я во сне знаю, что мы с ним никогда больше не увидимся; через мгновение он отворачивается, его машина быстро выезжает со двора, причем не в обычные ворота, а напрямик, через сад (в реальности она бы там не прошла), – и выезжает не на шоссе, а в пустое пространство, которому нет конца…
Летающая улитка
…и тропинка, выводящая к реке, темная от влажных больших деревьев, и листья их, усыпанные сплошь улитками, миллионы улиток, они падали, на них страшно было вдруг наступить и приходилось пристально смотреть под ноги, чтобы не раздавить крошечный завитой домик, и тропинка, выводящая к реке.
…и река, и сухой песок, привезенный с другого берега, где постоянно и надрывно гудела машина, вымывающая гравий, и какой-то мальчик, пахнущий тиной, сидящий на лодке, свесив ноги в воду, упругие и загорелые ноги, искусанные комарами, и река, и песок.
…и непонятная грусть то ли об уходящем детстве, то ли о том, что сбудется, конечно, но станет незаметным, как собственная кожа, то ли наоборот о чем-то, чего никогда не будет, да и нужно ли оно, а всё равно грустно, так и бредешь по песку, привычно не замечая утомительного гудения на том берегу, наклоняешься, подбираешь ракушки, правда, ракушка – это бабочка, сложившая крылья? – останавливаешься у воды и замираешь, когда мальки мгновенной сетчатой тенью проскользят над золотистым дном и опять пугливо уйдут в глубину, и непонятная грусть.
Все было так. Все было, как бывает у всех. Длинные выгоревшие волосы, первые долгие вечера у костра. Кажется, чуть обгорели ресницы? Шумящий лес, опрокинутая лодка, мальчик, пахнущий тиной. Нравился? Тем, что так прост – и оттого непонятен. Деревенский мальчик – как удивительно! Жить всегда в деревянном покосившемся доме, кудахчут куры – разве можно убить того, кого вырастил сам? – собаки валяются в пыли, что за странная жизнь, разве она еще существует, разве автомобили не смяли зеленые крылья травы, разве самолеты не подрезали серебристые волны деревьев, не сломали, не раздавили, не унесли потом туда, туда, куда скоро устремишься и ты, маленькая любительница автомобилей и самолетов, глядящая тогда на его искусанные комарами коленки, точно в собственный сон, нет, в два угловатых, незавершенных собственных сна, только сны, только дрема, мой друг, только пузыри-фантомы на поверхности твоей воды, впрочем, так всегда и у всех. А возможно, и вообще никогда-никогда-никогда, и все начинается лишь сейчас. Ты прав: все начинается лишь сейчас.
Никогда. Я настаиваю, слышишь. Будущее целую, а прошлое давно сгорело. Ничего. Кажется, твои ресницы тогда чуть-чуть опалило? Не было, не было никакого тогда. Никого. Но твои ресницы… Мои? Нигде. Спроси меня, что там позади, в той глубине, в той темноте, и я скажу: пустота. Я отвечу тебе, не солгав: ты прав, никогда ничего никого нигде. Все действительно начина… нет, началось, уже началось.
И тропинка, и река, и непонятная грусть.
Маленькой любительницы автомобилей и самолетов больше не существует. Она приземлилась, приникла к земле, застыла? Нет, она превратилась.
И тропинка.
Да, я никогда не боялась пойти по незнакомой