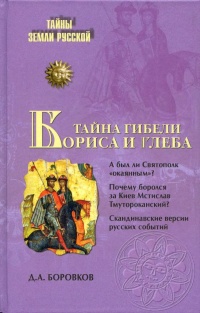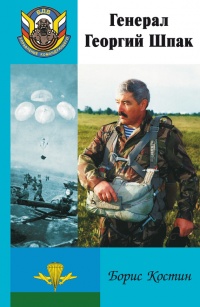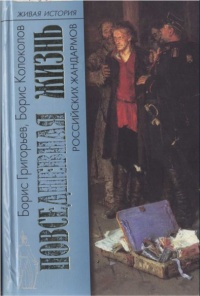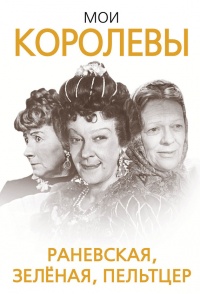Скорее всего, войско, подчиненное Борису, было собрано Владимиром в 1014 году для войны со строптивым сыном, новгородским князем Ярославом, отказавшимся платить Киеву урочную дань. С таким войском Борис мог бы побороться за киевский златой стол. Но он или не смог сделать это, или не захотел. И здесь возможны различные версии событий. Вокняжения своего будущего убийцы в Киеве Борис, вероятно, не предусмотрел. Если он был объявлен преемником отца, а Святополк во время ухода войск из Киева находился в темнице, то Борис не ожидал его вмешательства в борьбу за престол. Если же Святополк, по соглашению с Владимиром, был освобожден из узилища, то Борис, возможно, не ожидал, что сводный брат нарушит условия договора. Но в обоих случаях у Бориса были основания для борьбы за власть[111]. Уступая Святополку, он следовал прежде всего религиозным нормам, заповеди братолюбия и послушания старшему, а не подчинялся праву старшинства: ведь если Борис считал старшинство неоспоримым основанием для вступления на киевский престол, он не согласился бы стать преемником отца. Если же Владимир не объявлял либо не успел объявить Бориса престолонаследником, Святополк взял власть вполне законно. И в этом случае Борис мог вступить с ним в борьбу. Но уже скорее как мятежник. Так или иначе, «было бы неверно видеть в действиях Бориса лишь проявление слабости или робости. Наверное, дело в ином. Борис, может быть, и готов был занять киевский престол — но лишь по прямому волеизъявлению Владимира или киевлян. Случилось иначе — и он не осмеливался вмешиваться в ход событий, ибо увидел в утверждении Святополка на престоле изъявление уже свершившейся Божьей воли».
Все источники свидетельствуют, что Бориса кто-то предупредил о намерении Святополка убить его. «Чтение…» объясняет отказ Бориса от борьбы, помимо нежелания противиться старшему брату, стремлением сохранить жизнь воинам: «Нет, братья мои, нет, отцы, не прогневайте так господина брата моего, иначе он на вас гонения начнет. Чем стольким душам, лучше мне одному умереть. Тем паче не смею противиться старшему брату, потому что тогда суда Божьего не избегну. Но молю вас, братия моя и отцы, вы идите по домам своим, я же пойду, паду к ногам брата моего, может, смилостивится надо мной, если меня увидит, не станет убивать».
Горесть и сокрушенные мысли Бориса, узнавшего о смерти отца и злом умысле Святополка, подробно переданы в его внутреннем монологе, написанном автором «Сказания об убиении Бориса и Глеба»: «Увы мне, свет очей моих, сияние и заря лица моего, узда юности моей, наставник неопытности моей! Увы мне, отец и господин мой! К кому прибегну, к кому обращу взор свой? Где еще найду такую мудрость и как обойдусь без наставлений разума твоего? Увы мне, увы мне! Как же ты зашло, солнце мое, а меня не было там! Был бы я там, то сам бы своими руками честное тело твое убрал и могиле предал. Но не нес я доблестное тело твое, не сподобился целовать прекрасные твои седины. О, блаженный, помяни меня в месте успокоения твоего! Сердце мое горит, душа мой разум смущает, и не знаю, к кому обратиться, кому поведать эту горькую печаль? Брату, которого я почитал как отца? Но тот, чувствую я, о мирской суете печется и убийство мое замышляет. Если он кровь мою прольет и на убийство мое решится, буду мучеником перед Господом моим. Не воспротивлюсь я, ибо написано: “Бог гордым противится, а смиренным дает благодать” [Иак. 4: 5; 1 Петр. 5: 5]. И в послании апостола сказано: “Кто говорит: 'Я люблю Бога', а брата своего ненавидит, тот лжец” [1 Иоанна, 4: 20]. И еще: “В любви нет страха, совершенная любовь изгоняет страх” [Там же, 4: 18]. Поэтому, что я скажу, что сделаю? Вот пойду к брату моему и скажу: “Будь мне отцом — ведь ты брат мой старший. Что повелишь мне, господин мой?”».
Этот фрагмент — не «протокол», не фиксация реального душевного состояния Бориса. Он принадлежит не святому, а составителю жития. И в серии цитат из Священного Писания отражено умонастроение книжника, а не мысли князя, идущего с войском на марше. Но в высшем — и главном — смысле этот текст, вероятно, достоверен. Если Борис истинно веровал и глубоко и участливо, всей полнотой сердца воспринял заповеди христианской веры, он должен был думать и чувствовать именно так. И вспоминать именно эти новозаветные речения. Борис размышляет: «Если пойду в дом отца своего, то многие люди станут уговаривать меня прогнать брата, как поступал, ради славы и княжения в мире этом, отец мой до святого крещения. А ведь все это преходяще и непрочно, как паутина. Где скрою множество грехов своих? Что приобрели братья отца моего или отец мой? Где их жизнь и слава мира сего, и багряницы, и пиры, серебро и золото, вина и меды, яства обильные, и резвые кони, и хоромы изукрашенные и великие, и богатства многие, и дани и почести бесчисленные, и похвальба боярами своими? Всего этого будто и не было: всё с ним исчезло, и ни от чего нет подспорья — ни от богатства, ни от множества рабов, ни от славы мира сего. Так и Соломон, всё испытав, всё видев, всем овладев и всё собрав, говорил обо всем: “Суета сует — всё суета!” [Екклесиаст, 1: 2]. Спасение только в добрых делах, в истинной вере и в нелицемерной любви».
В этих словах — разочарование во всем мирском, они говорят, даже кричат о душевном переломе, о разительной перемене. Борис оказался в той ситуации, которая в философии экзистенциализма получила название «пороговой». О его выборе лучше всего можно сказать словами экзистенциалиста: «…Самая мысль о возможности тем или иным поступком своим навеки спасти или погубить душу представляется нам фантастической, болезненной, почти безумной. Но именно потому, по-моему, нам следует почаще заглядывать в те эпохи, когда такого рода мысли могли зарождаться и жить в душах людей. В средние века человек рассматривал свою жизнь, нет, не рассматривал, это мы рассматриваем, для того времени нужно искать других слов, — в средние века человек чувствовал, воспринимал свою жизнь sub specie (с точки зрения (лат.). — А. Р.) Страшного суда. Смысл и значение того или иного его поступка не исчерпывались для него видимыми последствиями. Ему всегда чудилось, что где-то в ином мире каждое его действие получает оценку, совершенно независимо от того значения, которое оно имеет на земле. И даже не действие только — вся жизнь человека вовсе не есть случайный пузырек, всплывающий и лопающийся среди миллиардов других пузырьков на поверхности бытия. Жизнь человека полна великого и таинственного значения, и каждый из нас несет на себе страшную ответственность. Все муки и радости нашего земного существования ничтожны сравнительно с муками и радостями иной жизни. На земле мы можем только слабо предчувствовать настоящую жизнь. Только в минуты особенного душевного подъема мы приобщаемся к иному, божественному, а не человеческому, бытию. Сейчас мы можем поступать правильно или неправильно, но, с большим или меньшим приближением, мы можем рассчитать последствия наших поступков. Тогда последствия были неизмеримы. Вечная гибель, вечное блаженство — слова, почти утратившие всякий смысл для современного сознания, — пред сознанием средневекового человека горели ярким, никогда не угасающим пламенем».