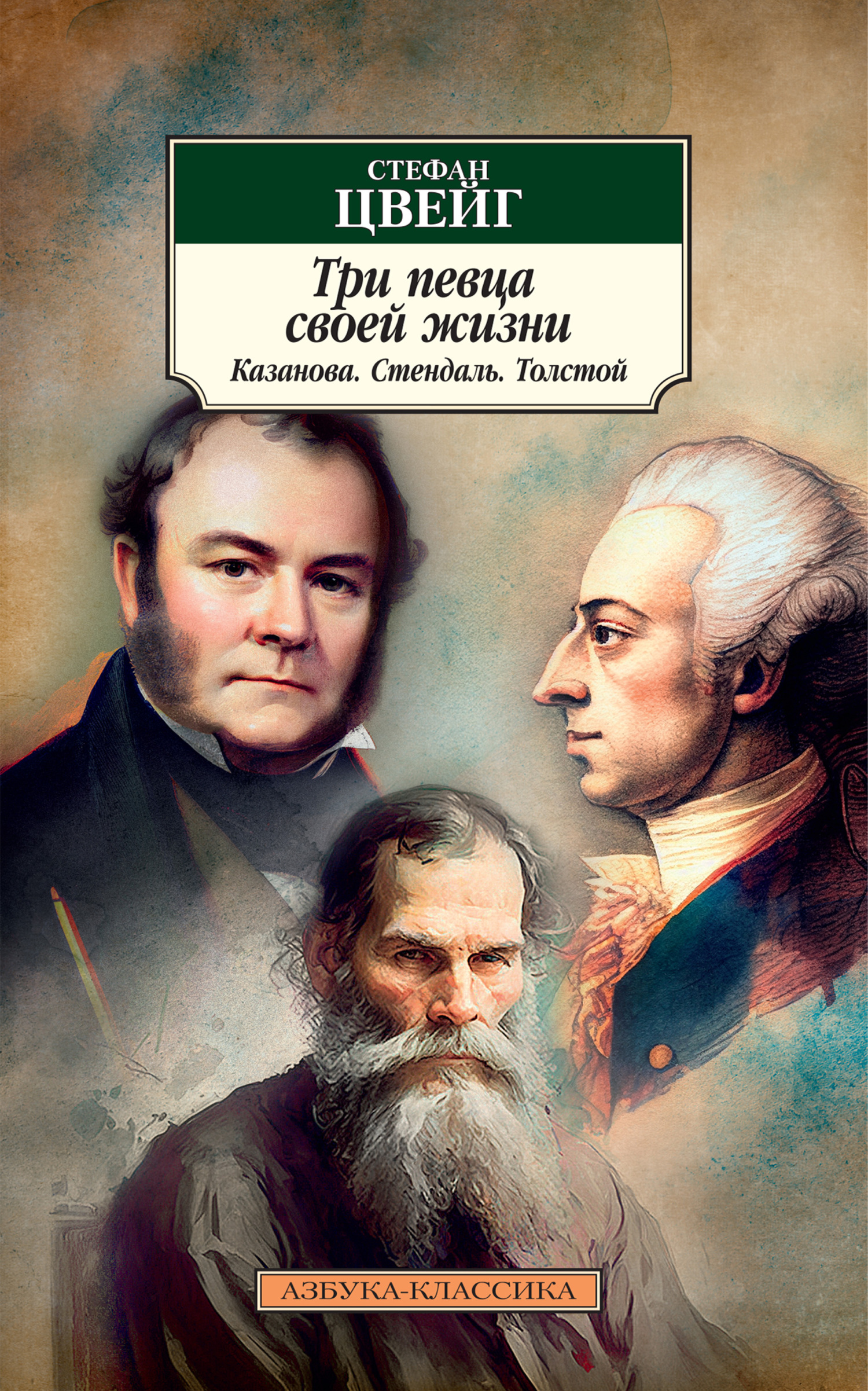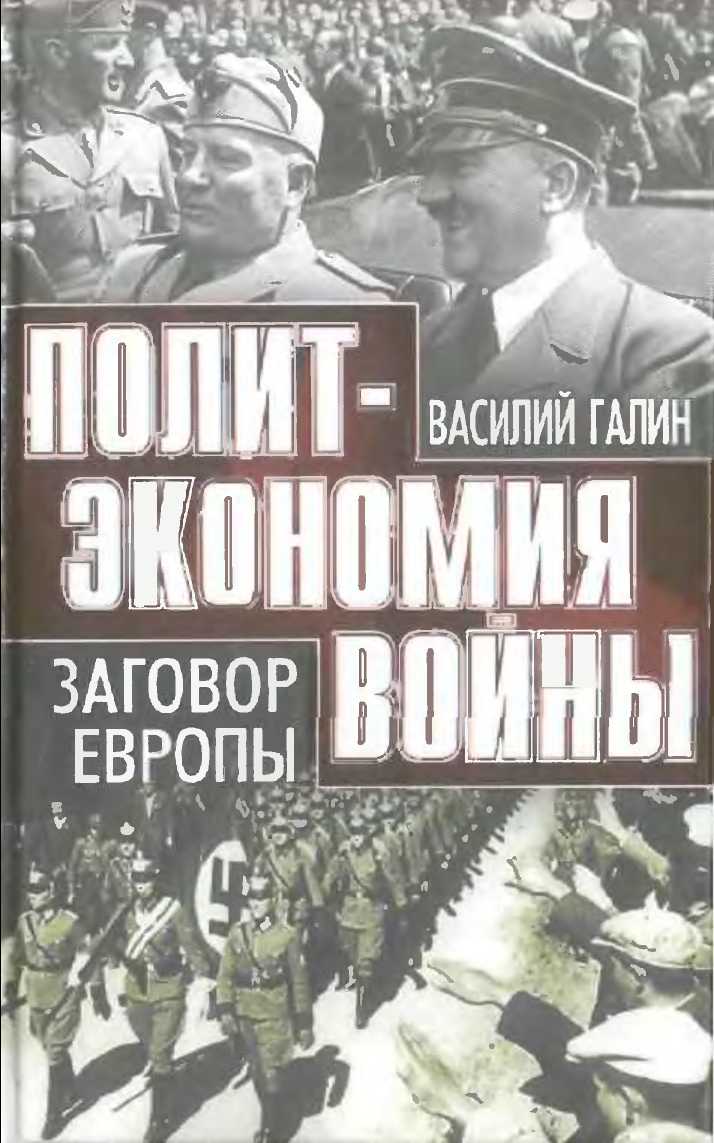капризам, заставляла ее почти благоговейно исполнять все обязанности простыми словами: «Сделайте это из любви ко мне». Сказать маленькой девочке: «Сделайте это, так как это благоразумно» – нечестивая дерзость, приводящая к протестантству. «Сделайте это из любви ко мне» – согласуется со всем и не влечет за собой размышлений о том, что благоразумно и что нет. Но именно поэтому, даже преисполненная самых лучших намерений, госпожа де Шастеле при малейшем смущении терялась и не знала, как себя вести.
Очутившись на скамье около мраморного столика, госпожа де Шастеле предалась отчаянию; она не знала, где найти защиту от ужасных упреков в том, что могла показаться Люсьену недостаточно сдержанной. Первой ее мыслью было навсегда уйти в монастырь. «Этот обет вечного одиночества докажет ему, что я не намерена посягать на его свободу». Единственным возражением против этого была мысль, что все станут говорить о ней, обсуждать причины, побудившие ее к такому поступку, строить всякие таинственные предположения и т. д. «Мне нет дела до них. Я никогда их больше не увижу… Да, но я буду знать, что они говорят обо мне, злорадствуют, и это сведет меня с ума. Их сплетни будут для меня нестерпимы… Ах, – воскликнула она с еще большей горечью, – эти пересуды только подтвердят господину Левену то, в чем он и так, быть может, уверен: что я распущенная женщина, не умеющая держаться в священных границах женской скромности!» Госпожа де Шастеле была так взволнована и притом она до такой степени не привыкла спокойно обдумывать свои поступки, что совершенно забыла подробности того, что повергло ее в такое отчаяние и стыд. Она никогда не садилась за пяльцы, не спрятавшись за ставни, не услав из комнаты горничную и не закрыв двери на ключ.
«Я скомпрометировала себя в глазах господина Левена!» – почти судорожно твердила она, облокотившись на мраморный столик, к которому подвел ее господин де Блансе.
«Была роковая минута, когда я могла забыть перед этим молодым человеком ту святую стыдливость, без которой женщина не может рассчитывать не только на уважение других, но даже и на свое собственное. Если у господина Левена есть хоть немного самонадеянности, вполне естественной в его возрасте и как будто сказывающейся в его манерах, когда я следила за ним из окна, я обесчестила себя навеки; забывшись на одно мгновение, я опорочила ту чистоту, с которой он мог думать обо мне. Увы! Мое оправдание в том, что я в первый раз в жизни поддалась порыву необузданной страсти. Но разве можно назвать это оправданием? Можно ли даже говорить об оправдании? Да, я забыла все законы стыдливости!» Она решилась мысленно произнести эти ужасные слова; слезы, стоящие в ее глазах, сразу высохли.
– Дорогой кузен, – напряженно-твердым голосом сказала она виконту де Блансе (но он совсем не обратил внимания на эту мелочь, он заметил лишь интимность, с какой она обращалась к нему), – это самый настоящий нервный припадок. Принесите мне стакан воды, но, ради бога, сделайте так, чтобы никто на балу этого не заметил! – И издали крикнула ему: – Если можно, со льдом!
Необходимые усилия, которые пришлось ей сделать, чтобы разыграть эту маленькую комедию, отвлекли ее немного от ужасных страданий. Растерянно следила она издали за движением виконта. Когда он отошел на такое расстояние, что не мог уже слышать ее, она дала волю жестокому отчаянию и разразилась рыданиями, которые, казалось, могли задушить ее; это были горячие слезы глубокого горя и, главным образом, стыда.
«Я навсегда скомпрометировала себя во мнении господина Левена. Мои глаза сказали ему. „Я люблю вас безумно“».
Я призналась в этом легкомысленному юноше, гордому своими победами, нескромному, призналась в первый же день, как только он заговорил со мной. В своем безумии я задавала ему вопросы, на которые едва ли дают право полугодовое знакомство и дружба! Боже мой! О чем я думала?
«Когда вы не находили ничего, что бы сказать мне в начале вечера, то есть когда я ждала и страстно желала услышать от вас хоть слово, была ли причиной этого ваша застенчивость?
Застенчивость, великий боже! (И рыдания чуть не задушили ее.)
Была ли причиной этого ваша застенчивость? – повторила она с растерянным взглядом, качая головой. – Или то было следствием этого подозрения?
Говорят, что раз в жизни женщина теряет рассудок; вероятно, мой час настал».
И вдруг ее сознание пронзил смысл этого слова: подозрение.
«Прежде чем я так неприлично бросилась ему на шею, он даже подозревал меня в чем-то. И я, я опустилась до того, что стала перед ним оправдываться. Перед каким-то незнакомцем!
Боже мой! Если что-нибудь и может заставить его поверить всему, так это мое ужасное поведение».
Глава девятнадцатая
В довершение беды и в результате того мудрого уклада, который делает столь привлекательной жизнь в провинции, несколько женщин, в душе не питавших, конечно, никакой неприязни к госпоже де Шастеле, покинули бал и все разом устремились к мраморному столику. Некоторые из них захватили с собой свечи. Все они наперебой заявляли о своем расположении к госпоже де Шастеле и желании ей помочь. У господина де Блансе не хватило твердости защитить вход в буковую аллею и помешать их вторжению.
Чрезмерность страдания и огорчений в связи с отвратительной суматохой, поднявшейся вокруг госпожи де Шастеле, едва не довели ее до настоящего нервного припадка. «Посмотрим, как будет вести себя эта особа, гордая своим богатством и манерами, когда ей дурно», – думали милые приятельницы. «Если я сделаю малейшее движение, я совершу еще какую-нибудь ужасную ошибку», – промелькнуло в сознании госпожи де Шастеле, как только она услыхала, что они к ней приближаются. Она решила молчать и не произносить ни слова.
Госпожа де Шастеле не находила никакого оправдания своим мнимым проступкам и была так несчастна, как можно быть лишь при самых тяжелых житейских обстоятельствах. Трагические чувства людей, обладающих нежной душою, не переходят пределов человеческой выносливости, может быть, только потому, что необходимость действовать мешает этим натурам целиком уйти в свое горе.
Люсьен умирал от желания выйти вслед за нескромными дамами на террасу; он сделал несколько шагов, но испугался своего грубого эгоизма и, чтобы избежать всяких искушений, покинул бал. Уходил он, правда, медленно: ему жалко было, что он не остался до конца.
Люсьен был удивлен и даже испытывал в глубине души беспокойство. Он был далек от того, чтобы дать себе отчет в размерах своей победы. Он испытывал инстинктивное стремление мысленно перебрать и взвесить спокойно и рассудительно события, развернувшиеся с такой