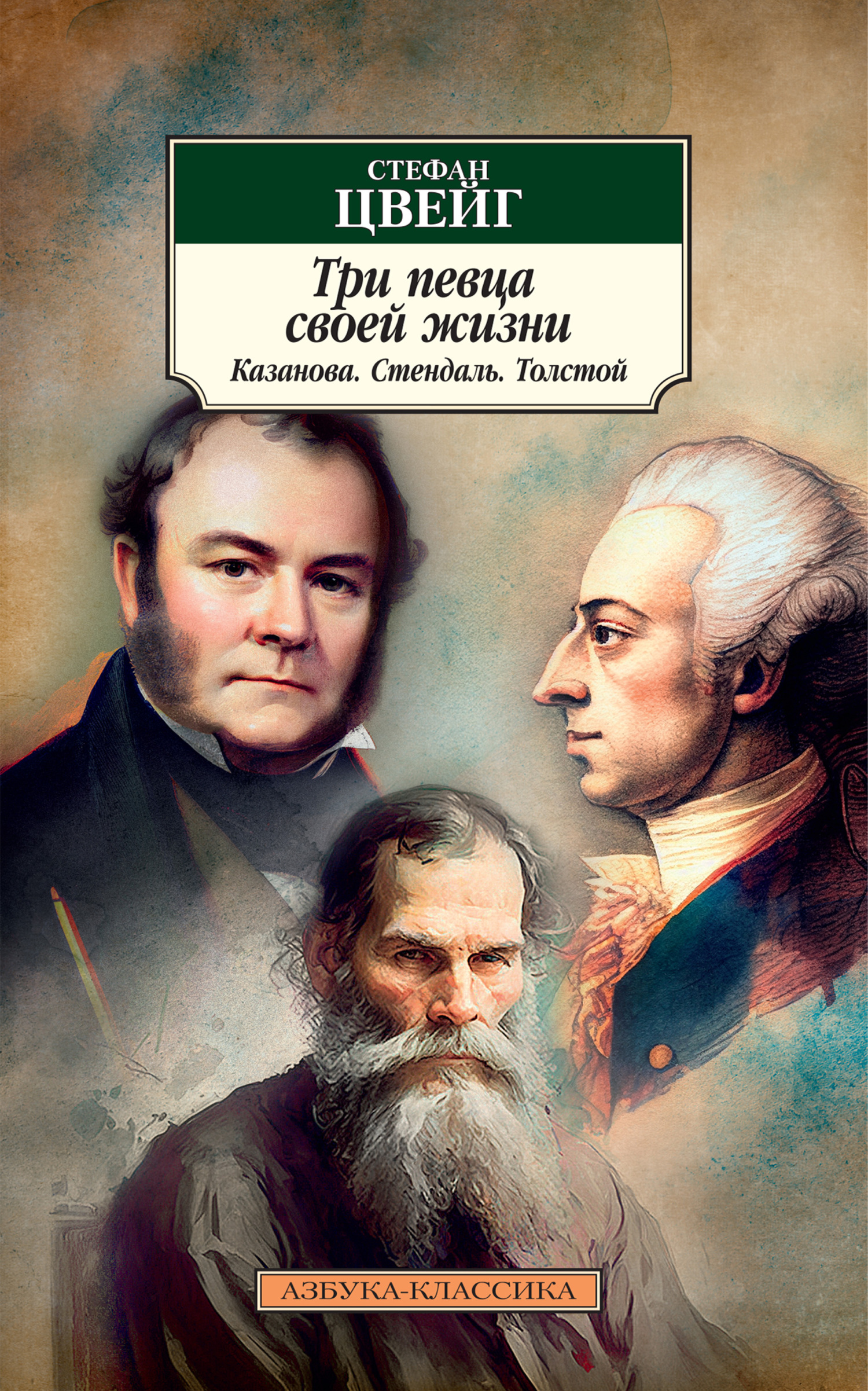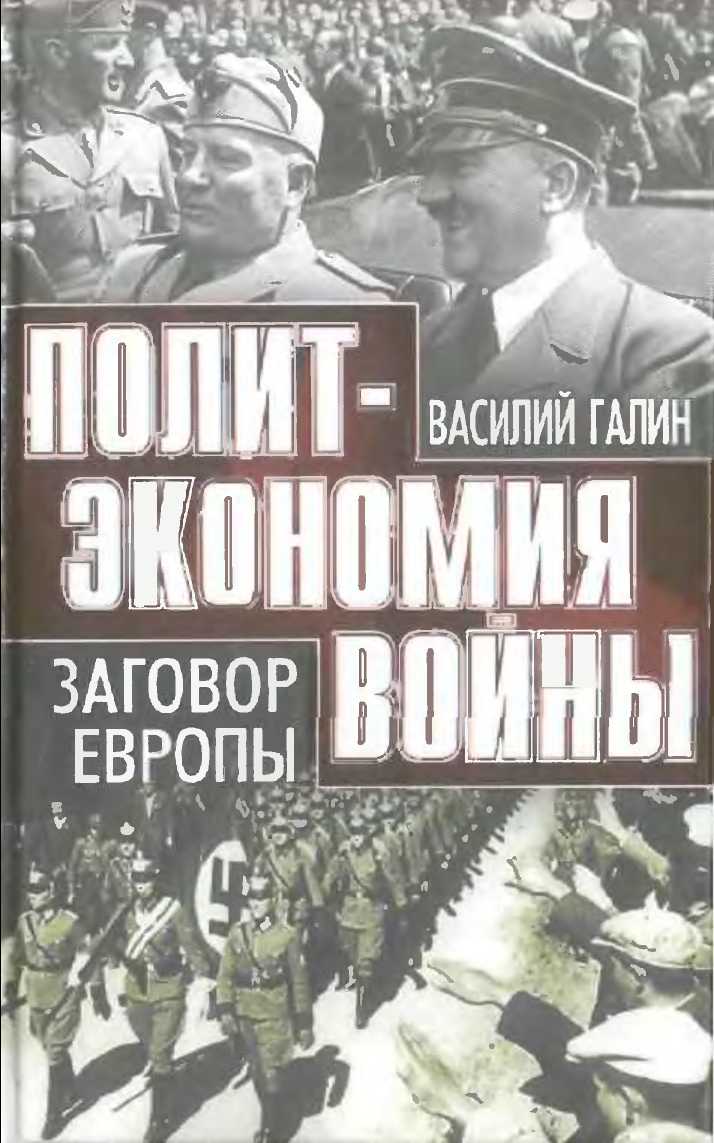строить танцующие, без конца мелькавшие мимо них в разнообразных фигурах котильона?
Она могла выбирать, отвечать ли ей или нет на эту любовь. Как он был чистосердечен! Как самоотверженно он любил ее! «Быть может, даже наверно, – думала она, – это увлечение не будет длительным; но сколько в нем искренности! Как далек он от всяких преувеличений и напыщенности! Это, несомненно, подлинная страсть; как сладостно быть так любимой! Но внушать ему подозрения, и притом подозрения, угрожающие самой его любви! Значит, он обвиняет меня в чем-то позорном?»
Госпожа де Шастеле в задумчивости склонила голову на веер. Время от времени взор ее обращался к Люсьену; неподвижный, бледный, как привидение, он глядел ей прямо в лицо. Глаза его смотрели так испытующе, что она содрогнулась бы, если бы заметила это.
Глава восемнадцатая
Другое сомнение еще сильнее взволновало ее сердце.
«Значит, его молчаливость в начале вечера, – думала она, – объяснялась не отсутствием темы для разговора, как я имела наивность предположить. Причиной этому было подозрение, ужасное подозрение, подорвавшее его уважение ко мне… Подозрение в чем? Какой же гнусной должна быть клевета, чтобы произвести такое сильное впечатление на столь молодое и благородное существо?»
Госпожа де Шастеле была так возбуждена, что не думала о своих словах, и, невольно поддавшись веселому тону, который беседа приобрела за ужином, задала Люсьену странный вопрос:
– Как! Вы не находили слов… кроме самых незначительных, чтобы говорить со мною в начале вечера? Была ли это… чрезмерная учтивость? Или сдержанность, естественная при первом знакомстве? Или… – и голос ее понизился помимо ее воли, – виной этому было подозрение? – выговорила она наконец еле слышно, но очень выразительно.
– Это было следствием моей крайней застенчивости: я совсем неопытен в жизни, я никогда не любил; глаза ваши, когда я увидал их так близко, испугали меня; до сих пор я видел вас лишь издали.
Слова эти были сказаны так искренне и задушевно, они свидетельствовали о такой любви, что, прежде чем госпожа де Шастеле успела об этом подумать, ее правдивые и глубокие глаза ответили: «Я тоже люблю вас».
Она очнулась, словно от экстаза, и почти сразу же поспешила отвести глаза; но Люсьен уловил этот взор признания.
Он покраснел до смешного, он был вполне счастлив. Госпожа де Шастеле чувствовала, что щеки ее заливает жгучий румянец.
«Боже мой! Я себя ужасно компрометирую; все взгляды, должно быть, направлены на этого чужого человека, с которым я говорю так долго и с таким интересом!»
Она позвала господина де Блансе, танцевавшего котильон.
– Проводите меня до садовой террасы; я уже пять минут как совершенно задыхаюсь от жары. Выпила полбокала шампанского и, кажется, в самом деле опьянела.
Но, к ужасу госпожи де Шастеле, ее кузен, виконт де Блансе, вместо того чтобы отнестись к ней с участием, только усмехнулся, услыхав эту ложь. Он безумно ревновал свою кузину, которая так интимно и с таким удовольствием беседовала с Люсьеном. Кроме того, ему говорили в полку, что не нужно верить недомоганиям красавиц. Он уже подал руку госпоже де Шастеле и собирался вывести ее из зала, как на смену этой мысли пришла другая, не менее блестящая: он заметил, что госпожа де Шастеле опиралась на его руку с беспомощностью, свидетельствовавшей о крайней слабости.
«Может быть, моя прекрасная кузина хочет наконец признаться мне во взаимности? Или по крайней мере просто в нежном чувстве ко мне?» – подумал господин де Блансе. Но все подробности вечера, которые он перебирал в своем уме, ничего ему не говорили об этой счастливой перемене. Произошла ли она неожиданно, или госпоже де Шастеле захотелось посекретничать с ним? Он повел ее на другую сторону цветника. Там стояли мраморный столик и большая садовая скамья со спинкой и подножкой. Он с трудом усадил на скамью госпожу де Шастеле, которая, казалось, почти не могла двигаться.
Между тем как виконт де Блансе предавался пустым мечтам, не видя того, что происходит перед его глазами, госпожа де Шастеле впала в полное отчаяние. «Мое поведение ужасно! – думала она. – Я скомпрометировала себя в глазах всех этих дам, и сейчас они злобно и оскорбительно обсуждают все мои поступки. Бог знает сколько времени я вела себя так, как будто никто не смотрел на меня и на господина Левена. Эта публика мне ничего не простит… Но господин Левен?»
Она вздрогнула, произнеся мысленно это имя: «Я скомпрометировала себя в глазах господина Левена!»
В этом заключалось ее истинное горе, заставившее ее сразу же забыть все остальное, и уже никакие размышления о том, что только что произошло, не могли его ослабить.
Вскоре еще одна догадка углубила ее душевные терзания: «Господину Левену стало известно, что я целыми часами в ожидании его проезда гляжу на улицу, спрятавшись за оконные ставни, и потому он так уверен в себе».
Мы просим читателя не находить госпожу де Шастеле слишком смешной. По совершенной своей неопытности она даже не догадывалась, на какие ложные шаги может толкнуть нас наше сердце, как только в нем пробудится любовь; никогда еще она не испытывала ничего похожего на то, что с нею произошло в этот мучительный вечер. Рассудок отказывался прийти к ней на помощь, а она не имела никакого житейского опыта. Только два чувства могли до сих пор повергнуть ее в смущение: робость при представлении какой-нибудь высочайшей особе да глубокое негодование против якобинцев, стремившихся пошатнуть трон Бурбонов. За вычетом всех этих теорий, которые воспринимались не разумом, а чувством и лишь на мгновение смущали ее сердце, госпожа де Шастеле обладала характером положительным и мягким, способным в эту минуту только усугубить ее терзания. Мелкие повседневные интересы почти не волновали ее, и это, к сожалению, приводило ее к неосмотрительным поступкам. Она всегда жила в каком-то обманчивом спокойствии, ибо люди, имеющие несчастье возвышаться над общим ничтожеством, особенно расположены благодаря этому заниматься лишь тем, что однажды привлекло их внимание.
Госпожа де Шастеле умела надлежащим образом, и даже не без грации, появляться в большом салоне Тюильри, приветствовать короля и принцесс, угождать знатным дамам, но, кроме этих необходимых талантов, не обладала никаким житейским опытом. Как только она чувствовала свой душевный покой нарушенным, она совершенно теряла голову, и в таких случаях ее осторожность подсказывала ей лишь одно: молчать и оставаться недвижимой. «Дай бог, чтобы я не сказала больше ни одного слова господину Левену», – думала она сейчас.
В монастыре Сердца Иисусова одна монахиня, сумевшая овладеть ее умом благодаря тому, что потакала всем ее детским