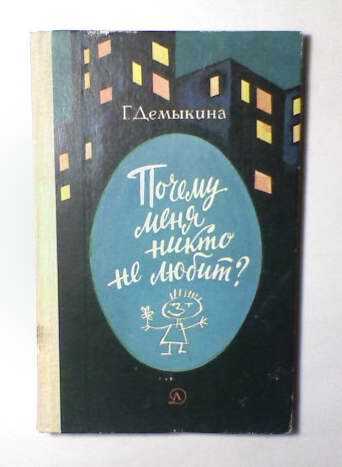распитием Массандровских вин: сначала под бутылочку Мадеры, затем Муската белого, затем Мускателя розового…..наутро я понял, что совершенно отвык от употребления десертных вин… А Березин поехал в Севастополь, — чтобы выкурить трубку на Графской Пристани».
Кто-то из хороших писателей старшего поколения, вот уж точно не помню — кто, рассказывал такую историю. Катаев, уже на излёте жизни, выступал на каком-то мероприятии, и начал рассказывать о Горьком. Но в какой-то момент рассказа что-то в нём переключилось, и он стал произносить вместо фамилии «Горький» — фамилию «Гоголь».
Так и звучало над залом «Гоголь мне как-то сказал…» и «Мы с Гоголем вышли на невский Проспект…». Кто-то решил поправить Катаева, но его одёрнули: ему — можно. Он и с Гоголем наверняка… Он — со всеми…
Эт созвучно с наблюдением того же Довлатова: «…В его мемуарах снисходительно упоминались — Набоков, Бунин, Рахманинов, Шагал. Они представали заурядными, симпатичными, чуточку назойливыми людьми. Например, *** писал: «…Глубкой ночью мне позвонил Иван Бунин»… Или: «На перроне меня остановил изрядно запыхавшийся Шагал»… Или: «В эту бильярдную меня затащил Набоков»… Или: «Боясь обидеть Рахманинова, я всё-таки зашел на его концерт»… Выходило, что знаменитости настойчиво преследовали ***. Хотя почему-то в своих мемуарах его не упомянули…».
На самом деле знаменитости — рядом.
Вот они — тут, сделай шаг, произнеси слово, и можно врать потомкам вечно.
Если доживёшь.
Извините, если кого обидел.
12 апреля 2011
История про посмертные загадки
Заговорили об Аверченко, и, в частности, о том, что у него очень часто в рассказах бывают фразы, которые стоят самого рассказа.
Я сразу вспомнил, что полжизни повторяю фразу Аверченко: "Жестокий это боксёр — Константинополь. Каменеет лицо от его ударов". Я бы, может, даже исключил бы первое предложение — но сам рассказ был неплохой, А ведь у иного писателя бывает и совсем по-другому: рассказ — дрянь, а фраза за фразой — блистательные. Рассказ превращается в сборник афоризмов. А текст распадается как кубик сахара в стакане.
Так вот, у Аверченко, кстати, есть такой рассказ "Страшный человек".
Он начинается так: "В одной транспортной конторе (перевозка и застрахование грузов) служил помощником счетовода мещанин Матвей Петрович Химиков…" и рассказывает — разумеется — о маленьком человеке и его тщетных попытках сделать свою жизнь осмысленной и значительной. Ну, а потом, разумеется, герой умирает:
"Химиков лежал на своей убогой кровати, смотря остановившимся взглядом в потолок.
Около него сидел неутешный хозяйский сын Мотька и, со слезами на грязном лице, гладил бледную руку Химикова.
— Да… брат… Мотя, — подмигнул ему Химиков, — много я грешил на своем веку, и вот теперь расплата.
— Мама говорила, что, может, не умрете, — попытался обрадовать страшного счетовода Мотька.
— Нет уж, брат… Пожито, пограблено, выпущено крови довольно. Мотя, у меня не было друзей, кроме тебя… Хочешь, я тебе подарю, что мне дороже всего, — мой кинжал?
На минуту Мотькины глаза засверкали радостью.
— Спасибо, Матвей Петрович! Я тоже, когда вырасту, буду им убивать.
— Ха-ха-ха! — зловеще засмеялся Химиков. — Вот он, мой наследник и продолжатель моего дела! Мотя, жди, когда придут к тебе трое людей в плащах, с винтовками в руках, — тогда начинайте действовать. Пусть льется кровь сильных в защиту слабых.
Уже несколько времени Химиков ломал голову над разрешением одного вопроса: какие сказать ему последние предсмертные слова: было много красивых фраз, по все они не нравились Химикову. И он мучительно думал.
Над Химиковым склонился доктор и Мотькина мать.
— Кто он такой? — шепотом спросил доктор, удивленно смотря на висевшую в углу громадную шляпу и плащ.
— Лекарь, — с трудом сказал Химиков, открывая глаза, — тебе не удастся проникнуть в тайну моего рождения. Ха-ха-ха!
Он схватился за грудь и прохрипел:
— Души загубленных мной толпятся перед моими глазами длинной вереницей… Но дам я за них ответ только перед престолом Всевыш… Засни, Красный Матвей!!!
И затих".
По-моему, всё это — это естественное желание человека (меня, по крайней мере, оно посещало — едко кто, правда, кто настоящую виртуальную реальность доводит до осязаемого состояния). Но, если поискать, наверняка кто-то из великих ещё отметился. Так же, как и Ферма, который по слухам, с постановкой задачи своей знаменитой теоремы приписал на полях: "Я вообще-то доказал всё это, но тут на полях слишком мало места, и я как-нибудь потом запишу". Ничего, разумеется, потом не записал. И несколько веков посмертно морочил всем головы.
Извините, если кого обидел.
13 апреля 2011
История про текущие наблюдения
А всё же верно, мало что так задевает, как желание умного спокойного разговора с достойным собеседником.
Ведь есть же люди, что каждый день проводят в таких беседах, а?
Говорят, правда, что для этого нужна чума и бегство из города на дачу.
Извините, если кого обидел.
13 апреля 2011
История про радиоголоса
…А сейчас я расскажу про географию звуков и историю электрических помех.
Я всегда предпочитал приёмник магнитофону. В недавнем, или уже давнем, прошлом телепрограммы оканчивались в половине двенадцатого ночи, а в полночь, вместе с гимном, умирало радио.
Тогда я уже жил один, и мне казалось, что в этой ночи я отрезан от мира.
Содержимое магнитной пленки было предсказуемо, и только радио могло меня спасти.
Я уповал на приемник, который в хрипах и дребезге коротковолнового диапазона рождал голос и музыку. Тогда одиночество исчезало. Тонкая выдвижная антенна связывала меня со всеми живущими.
В приёмнике что-то булькало и улюлюкало, но я знал, что эти звуки будут жить всю ночь, будут продолжаться и продолжаться, и не угадать, что начнется за этим шумом и речью, а что последует дальше.
Непредсказуемость и вечность ночного эфира внушала надежду, и приёмник звенел в углу единственным собеседником.
Голос и одиночество несовместимы — вот в чём прелесть этой ситуации.
В чужих городах самое хорошее время — позднее утро. Запах высыхающей на траве росы. Время, когда жители разошлись по делам; поют пернатые, за кустом виднеется что-то хвойное, а там, дальше, в соседнем дворе — облако цветущей вишни.
Я сидел и слушал радио — средние волны были оккупированы французами, длинные — немцами, на коротких царило заунывное пение муэдзина.
Иные диапазоны мне были недоступны.
Включение и выключение света, работа кипятильника, его включение и выключение — всё отзывалось в моем приемнике, кроме голоса с Родины. Однажды русский голос в приемнике, как бы в наказание за то, что первый