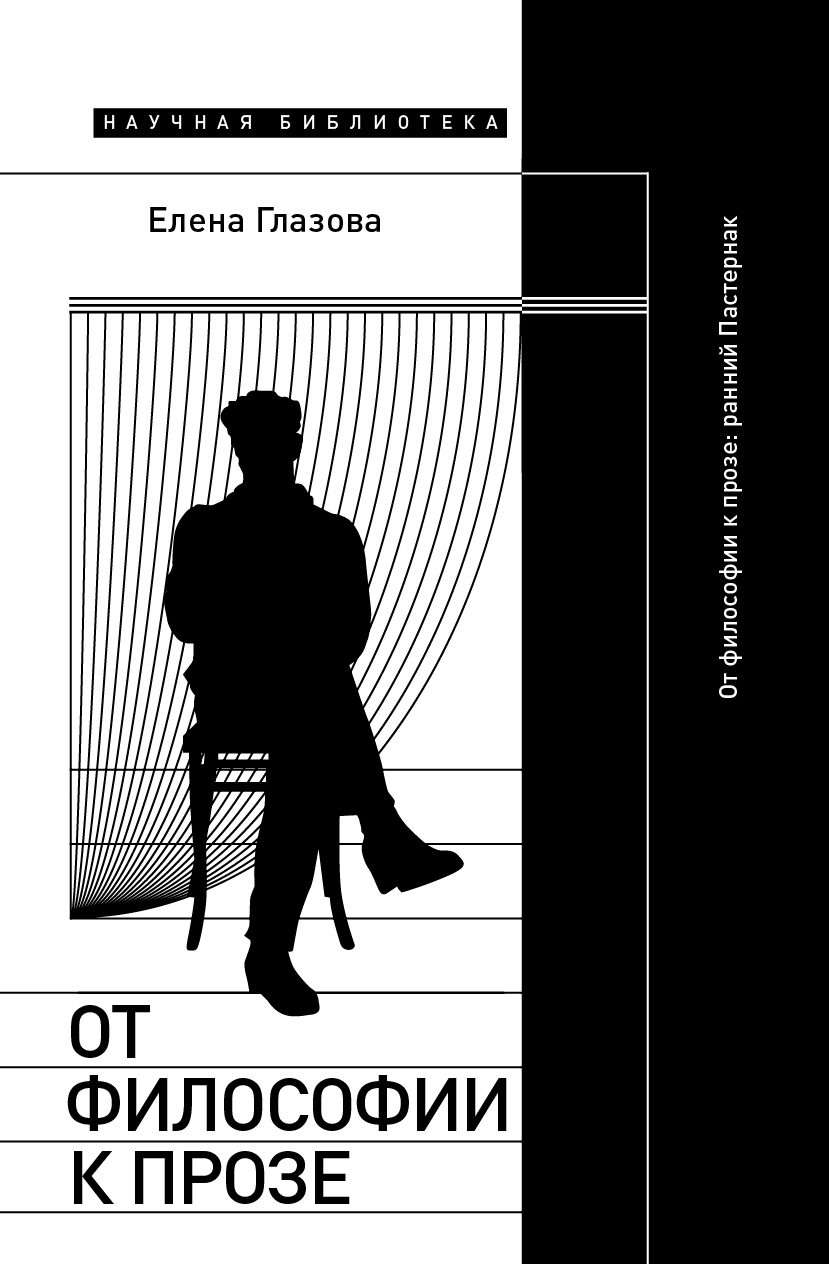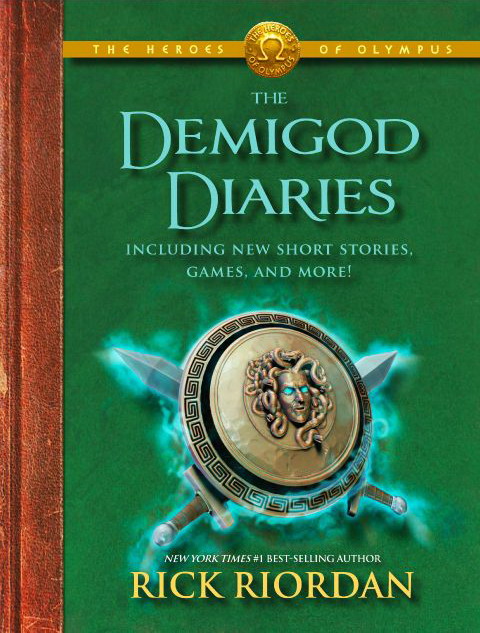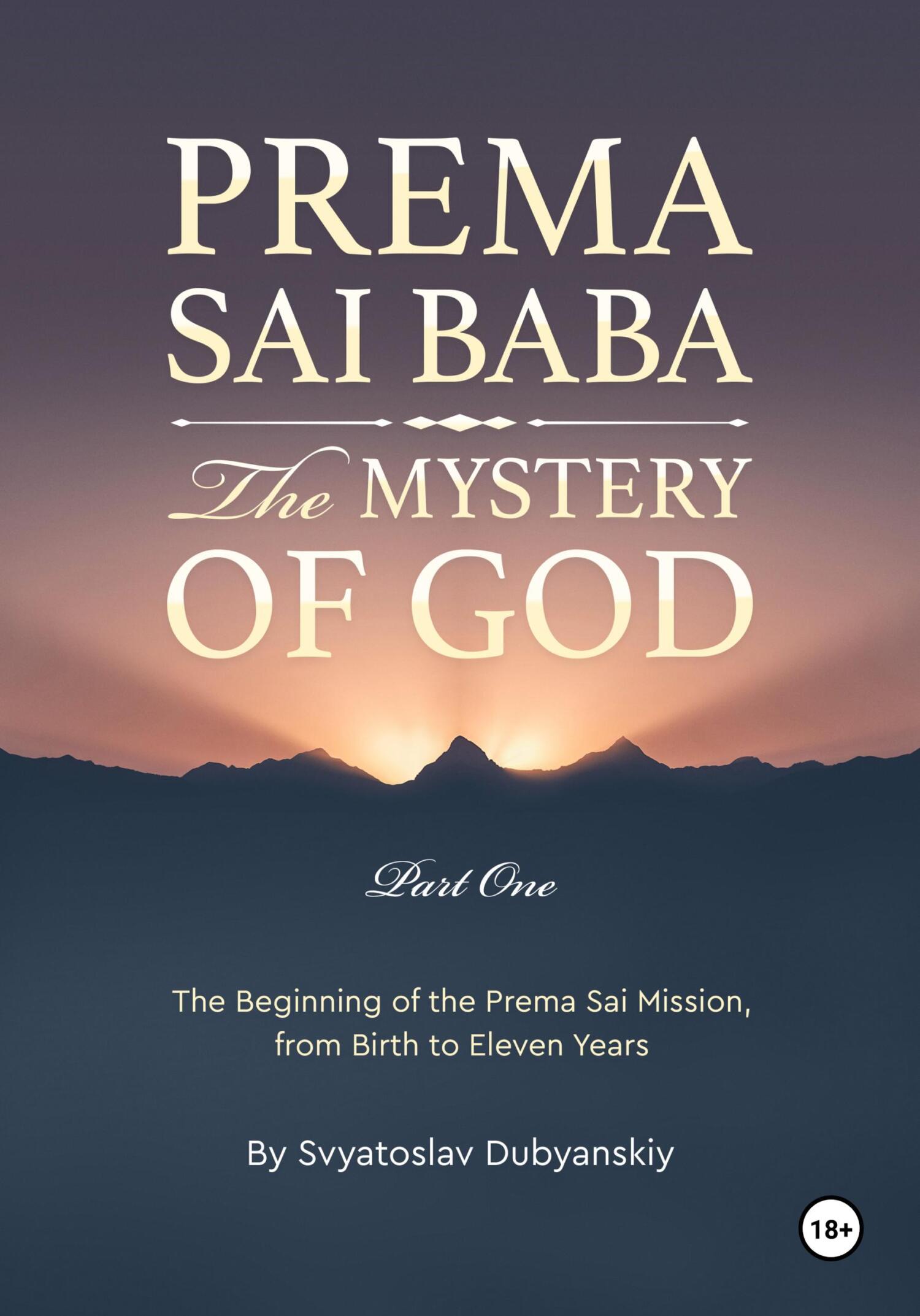более радостно собравшиеся представители коммунистической элиты приветствовали своих вождей: как написано в протоколе, «появление на трибуне товарищей Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Калинина, Андреева, Микояна, Жданова и Хрущева было встречено громом аплодисментов»[433]. Съезд заслушал доклад Сталина, в котором он сосредоточился на международной ситуации и экономическом росте страны, попутно опровергнув ошибочное мнение иностранных болтунов о том, что «если бы оставили на воле шпионов, убийц и вредителей и не мешали им вредить, убивать и шпионить, то советские организации были бы куда более прочными и устойчивыми»[434]. (Эта шутка была встречена смехом.) Андреев упомянул «глубокое чувство морального удовлетворения» в партии результатами недавних чисток. Микоян, чье активное участие в репрессиях было на удивление скромным, тем не менее предложил в качестве оправдания медицинскую метафору, отметив, что в период после последнего съезда «нам удалось обнаружить и уничтожить очаги контрреволюции, ликвидировать зараженные места на теле нашей партии, в результате чего партия стала еще сильнее, здоровее, могущественнее и сплотилась вокруг своего ЦК, вокруг товарища Сталина крепче, чем когда-либо прежде» (это было встречено «бурными аплодисментами»). Из выступавших членов команды самым яростным был Хрущев, он говорил почти как в 1937 году: украинский народ «ненавидит и проклинает врагов», которые будут «уничтожены как бешеные собаки» (его речь удостоилась «шумных аплодисментов» – необычная формулировка, предполагающая определенное отступление от норм). Молотов, который не делал каких-либо общих комментариев по поводу недавней истории партии, выступил с официальным отчетом об экономике и неожиданно столкнулся с резкой критикой. Предположительно, это был инсценированный эпизод мелкого унижения, поскольку его доклад, совершенно стандартный, накануне был одобрен в Политбюро[435].
Жданову, секретарю ЦК, отвечающему за кадры, было поручено сделать единственный доклад на тему, которая, безусловно, занимала главное место в сознании людей, – о терроре, который они все только что пережили. Событие было все еще безымянным – только позже оно стало называться «1937» в русском дискурсе и «большими чистками» (the Great Purges) на Западе, – так что Жданову пришлось прибегать к косвенным наименованиям, но даже при этом его подход был крайне невнятным. Он говорил не о терроре, а о регулярных партийных чистках, связанных с исключением из партии, но не с арестами – их можно было бы для удобства назвать мелкими чистками, – которые были частью партийной жизни с 1920-x годов. Под руководством Ежова на посту секретаря ЦК в 1935–1936 годах процесс регулярных партийных чисток был увязан с процессом разоблачения «врагов народа», но тем не менее это были разные вещи, концептуально и на практике. Пока остальные члены команды молчали, делегаты из регионов вставали один за другим и говорили о судебных ошибках на местах, когда были арестованы хорошие люди, члены партии. Часто говорили, что это результат «ложных доносов», аккуратно перекладывая ответственность с руководства партии на народ. Аресты многих людей, не состоящих в партии, – маргиналов, представителей некоторых нерусских этнических групп и т. д. – не упоминались, поскольку Жданов не касался этого в своем докладе, и, возможно, отчасти по этой причине эти репрессии оставались незамеченными западными наблюдателями на протяжении десятилетий[436].
Делегаты XVIII съезда партии были молодыми людьми, половина из них была моложе тридцати пяти лет, полными энтузиазма[437]. По словам одного из участников, адмирала Кузнецова, они отбивали себе ладони, аплодируя Сталину. Он не видел никаких признаков того, что ужасная бойня последних нескольких лет нанесла ущерб репутации Сталина в глазах партии. «Как ни странно, – комментировал он, – но его преступные ошибки с репрессиями создали ему еще больший авторитет»[438].
Глава 6
На войну
3 мая 1939 года Литвинова вызвали в Кремль и раскритиковали за то, что его политика коллективной безопасности не дала результатов. Дискуссия была жаркой. Молотов якобы кричал на Литвинова: «Вы думаете, что мы все дураки!» Жданов и Берия были также крайне критичны в отношении политики Литвинова. Результатом стала ночная телеграмма всем послам, информирующая их об отстранении Литвинова от должности и замене его Молотовым, который будет совмещать этот пост с должностью главы правительства. Это ознаменовало очень важный сдвиг в международной позиции Кремля. Потеряв надежду на англо-французский альянс против Германии, к которому стремился Литвинов, Сталин и его команда были готовы попробовать альтернативу.
В телеграмме послам увольнение Литвинова объясняется «серьезным конфликтом с Молотовым и правительством»[439]. Это беспрецедентное и ничем не обоснованное упоминание личного конфликта, как представляется, должно было затушевать участие Сталина. Конечно, отношения между Молотовым и Литвиновым были плохими. Литвинов считал Молотова дураком и не скрывал своего презрения. Молотов, со своей стороны, «был раздражен резким и зачастую жалящим остроумием Литвинова». По мнению белорусско-американского журналиста Мориса Хиндуса, Молотова задевало, что Литвинов бегло говорил на французском, немецком и английском языках, а его свободная манера общения с иностранцами вызывала у Молотова подозрения. «Никогда не живший за границей Молотов всегда подозревал, что в широком кругозоре Литвинова и в его признании западной цивилизации было что-то нечистое и греховное»[440].
Передача Наркоминдела была драматичной. Войска НКВД окружили здание, и Молотов немедленно начал чистку сотрудников наркомата (вероятно, это был его первый практический опыт такого рода, поскольку он не участвовал в поездках для проведения чисток в 1937–1938 годах). Говорили, что Молотов был в состоянии яростного возбуждения и кричал: «Хватит литвиновского либерализма! Я собираюсь с корнем вырвать осиное гнездо этого жида [Литвинова]!»[441] Это было настолько нетипично для обычно невозмутимого Молотова, который, в отличие от Кагановича и некоторых других членов команды, не позволял себе ругаться и кричать, что можно было бы усомниться в точности этого рассказа, если бы это был единственный случай. Однако, по крайней мере еще один раз, Молотов сорвался на крик в присутствии дипломатического корпуса (дело было весной 1940 года, и поводом был финский ультиматум), и его помощникам пришлось вывести его из зала. Его переводчик думал, что он, должно быть, был пьян, и весьма удивился на следующий день, когда Молотов выглядел нисколько не смущенным и не как с похмелья, а был вполне доволен собой. Из вопросов Молотова о реакции дипломатов он понял, что все это было инсценировкой, возможно, по предварительному соглашению со Сталиным, чтобы как можно более драматично выразить советское недовольство. Если предположить, что это была еще одна инсценировка в соавторстве со Сталиным, то антисемитизм должен был быть сигналом для нацистской Германии. После отставки еврея Литвинова и назначения русского Молотова одно препятствие на пути советско-германских переговоров исчезло.
Наркомат иностранных дел долгое время был пристанищем для партийных интеллектуалов, бывших