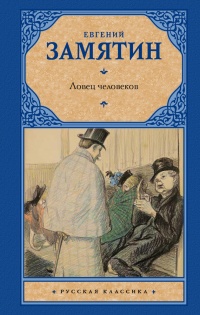плакали, умоляли мам заступиться, и я думал, что сам умру раньше Роки. Володька выглядел спокойным, но скулы у него порозовели.
Потом собака легла на землю и замерла. Володька отвязал ее, а я взял на руки. Сердце у Роки стучало часто-часто и очень сильно. Она не реагировала на поглаживания и даже не скулила — только вздымалась и опускалась, вздымалась и опускалась грудь.
«Ничего, Роки, ничего…» — повторял я как заведенный.
С чужой неволей тоже бывает трудно смириться.
На Курском вокзале я сделал последний снимок: Володя, Оля с Ленькой и собачка. Мы пожали друг другу руки и лапы, расцеловались и разъехались по домам.
Роки украли на следующий день — на почте, пока Оля отсылала какой-то перевод. Клевцов сказал мне об этом по телефону.
— Сволочи, — сказал я. — Как Олька? — спросил я потом.
— Да-а… — мне показалось, что Ленька — там, на другом конце города — махнул рукой. — Что Олька? Ревет…
Володька, как обещал ребятам-лавинщикам, зимой приехал работать на станцию; весной прилетал в Москву, приглашал снова погостить, но не срослось. Через несколько лет он умер — внезапно, в один миг.
Ленька с Олей развелись; иногда я встречаюсь с ними, но уже порознь, и о том лете стараюсь не напоминать.
Где сейчас Роки, не знаю. Наверно, сторожит чью-нибудь дачу. Если у кого дача — лучше кавказской овчарки сторожа не найдешь.
1986, 2016
ТАЙМ-АУТ. Повесть
Глава I. Четверг
Еще сквозь сон чувствую, что по мне кто-то ползает и без умолку лопочет.
— Ну И-ир, — тяну я, стараясь, чтобы голос звучал как можно противнее. — И-ир, убери Чудище. Я так не играю…
— Чудище, — откликается моя половинка с нескрываемой любовью. — Чудище, кто это? Кто это дрыхнет в четверть десятого?
— Имка! — радостно отвечает Чудище, прыгая у меня на голове.
Имка — это я, и сегодня Имке не спать. Встаю и, сладко потягиваясь, издаю долгий звук несмазанной двери. С недосыпу меня мотает по комнате и бьет о разные предметы.
Мы с Иркой состоим при Чудище уже полтора года. «Чудище» произошло от «Чуда» путем наблюдения за трансформацией наклонностей.
В настоящий момент это бывшее Чудо, слезши с кровати и открыв дверцы секретера, методично выбрасывает оттуда мои бумаги.
— Екатерина!
Услыхав официальное обращение, моя дочь, Екатерина Дмитриевна Скворешникова, пригнувшись, как под обстрелом, и вихляя попкой, начинает молча драпать к двери.
— Екатерина! — сурово окликаю я снова.
Настигнутое Чудище останавливается и поднимает на меня свои невинные глаза.
— Разве можно ЛЕЗТЬ В ШКАФ?
По глазам Чудища с несомненностью ясно, что никто в шкаф не лез. Разве может такой замечательный, послушный, милый ребенок лезть в шкаф?
— А кто это сделал? — спрашиваю я тогда с театральным жестом.
— Атя, — грустно признается моя честная дочь. Уходить от прямых вопросов она еще не научилась.
Я становлюсь на четвереньки, и бумаги мы собираем вместе. Мир-дружба.
На кухне, не переставая крутиться по одной ей известной траектории, Ирка сообщает: полдесятого, а еще не вскипело, не протерлось, не отжалось, не остыло, когда Чудище позавтракает, надо сразу идти гулять, иначе обедать она будет вообще черт-те когда, я не забыл, что сегодня зачет?
Я-то? Ну забыл.
Бухаюсь в драное кресло, открываю «склерозник» и выдаю утреннюю порцию звонков.
Сначала — Пепельникову: завтра сдавать текст! Не кручинься, Пепельников, ступай себе с богом, будет тебе три куплета к празднику, со слезой и историческим оптимизмом, только не обмани, родной, позолоти ручку… Ты видишь, Пепельников, моя муза уже зависла у антресолей, и в руках у нее вместо лиры обещанный тобою договор на двести деревянных рублей. И