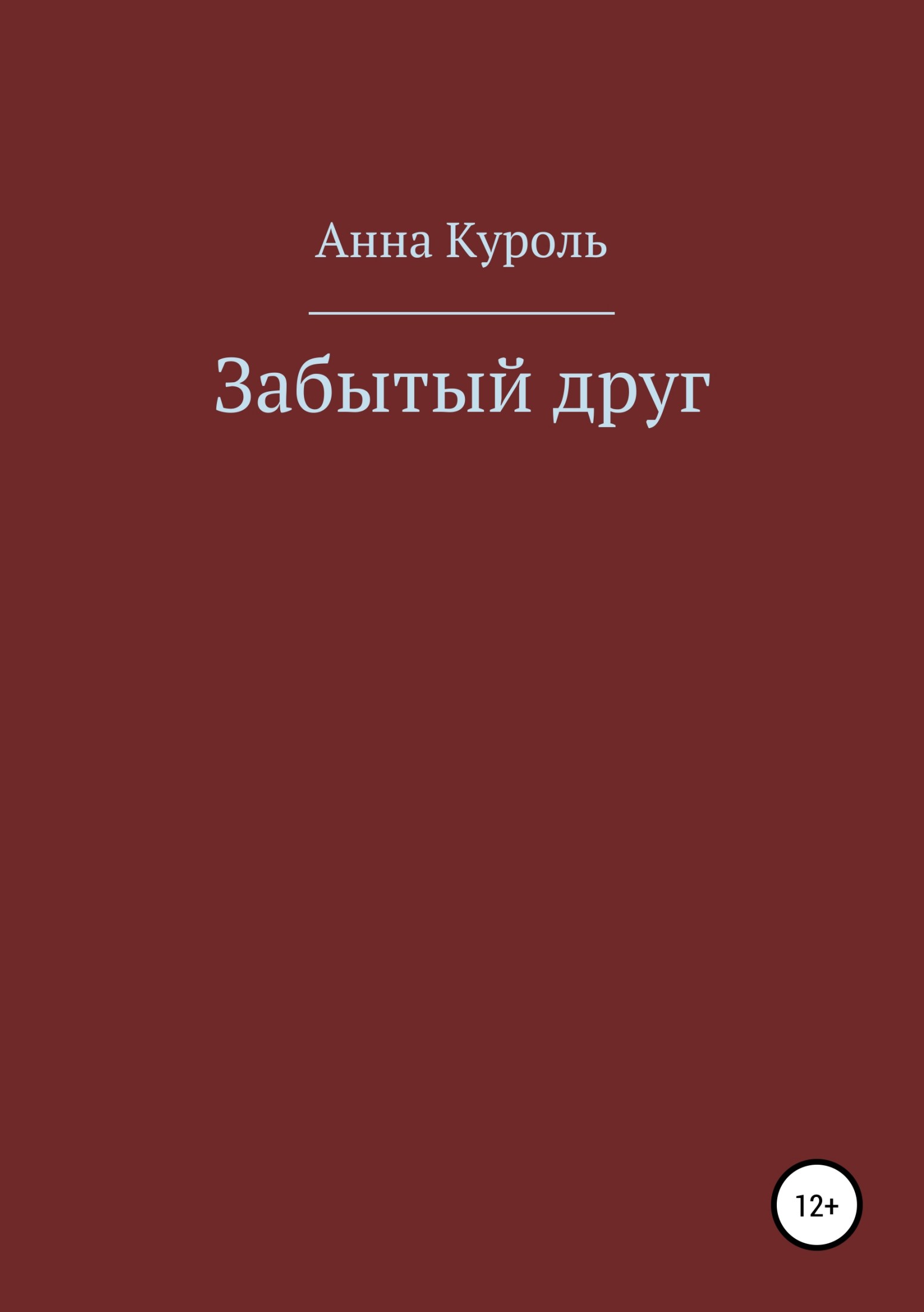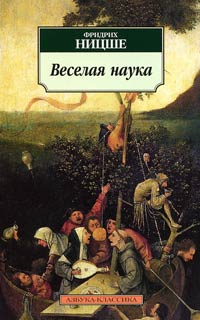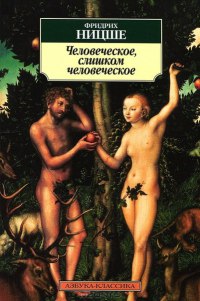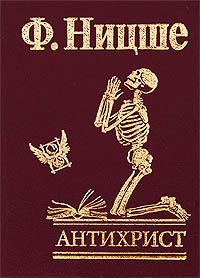ответа, где мы шлялись и почему она, моя мать, в темном платье и с платком на голове, вопреки его приказаниям. И она все ему рассказала. Напрямик. Твой сын изучает арабский язык. Классический арабский. Литературный. Язык моего народа, моей культуры, моей истории. Он вскочил с кресла и впечатал ее, мою мать, в стену, заорал, что сын его француз и будет расти французом. Говорить по-французски. Читать на французском. Играть с французскими детьми. И не будет его сын учить арабский. А его уже и так выворачивает от этого арабского дерьма, алжирского дерьма, этого гребаного кускуса, который она варит часами, вся квартира в пару, конденсат с окон капает. А я хочу нормальное жаркое из кролика и яблочную тарталетку.
Я хочу питаться так же, как и мои друзья. Как и мои начальники. После этого он набросился на ее книги. Ее газеты. Раздирал. Рвал на куски. Потом на нее. На мою мать. Ударил ее. Ладонью по лицу. Потом кулаком. В живот. В грудь. Сбил с ног. Начал пинать. Мой сын француз, он будет есть французскую пищу. Он расстегнул ремень, выдернул из джинсов. Черная полоска кожи взметнулась в воздух над моей мамой, моя любимая мама забилась в угол кухни возле мусорного бачка, мусор она вынесла перед уходом, положила новый мешок. Ремень свистнул в воздухе и опустился ей на спину. Она вскрикнула. Он замахнулся снова. На сей раз ударил ее по ногам. Она испустила крик. Ты, шлюха арабская. Ремень взметнулся вновь. И зачем я на тебе женился, подстилка арабская. Ремень опустился ей на бедренную косточку. Нужно было бросить тебя там с ребенком в животе, оставить в этой проклятой стране. Ремень взлетал и опускался, мама сжалась в комок, закрывая локтями и ладонями лицо, голову. Нужно мне было жениться на француженке. Жил бы без этого арабского дерьма. Ремнем по спине. Мой сын будет говорить по-французски. По ногам. Читать на французском. Снова по спине. Хлещет и хлещет. Ноги. Бедра. Спина. Ягодицы. Плечо. Мой. Сын. Будет. Французом.
Тут он остановился и, тяжело дыша, собрал ремень в кулак. Мама плакала, тихо, совсем тихо, потом протянула руку к моей ноге. Я смотрел на нее сверху вниз, с раскрытым ртом, молча, неподвижно, мне было не выдавить ни слова ни на материнском языке, ни на отцовском, я стоял и смотрел, как отец вставляет ремень на место, как он возвращается к пиву и телевизору, как мама отпускает мою ногу, и в этот самый миг отцовский язык стал моим родным языком, а материнский язык умолк, потому что после этого она почти не говорила. Читать перестала тоже, сидела у окна, глядя на море вдали, из дому выходила только в магазин за едой, каждый четверг приносила кролика и яблоки. Отец хвалил ее стряпню. Ее юбки покороче. Яркие цвета в одежде. Сказал, что я волен быть французом, как и он. Настоящий французский мальчик, сказал он. И ест настоящую французскую еду.
Он увидел Джеймса — тот возвращался с утесов, в каждой руке по кролику, под мышкой блокнот.
Ты на славу потрудился, Джеймс, сказал он. Массон отделился от дверного косяка.
Пойду с тобой, сказал он. Может, чашку чая нальют.
Джеймс разложил кроликов на столе. Выпустил из рук блокнот.
Славная парочка, сказал Михал.
Франсис взял блокнот, перелистал страницы. Джеймс стоял неподвижно, свесив руки.
Слышал, ты в Лондон собрался, решил стать художником, сказал Франсис.
Да, верно.
Надеюсь, художник из тебя выйдет толковее, чем рыбак.
Джеймс рассмеялся.
На это вся надежда, дядя Франсис.
Уезжаешь когда? — спросил Михал.
Скоро, сказал Джеймс. Как картина мистера Ллойда высохнет.
А над чем он работает, Джеймс? — спросил Массон.
Джеймс пожал плечами.
Что-то он на себя таинственность напустил, сказал Массон.
Да ничего таинственного, сказал Джеймс. Просто работает сам по себе. У художников так принято.
Франсис бросил блокнот на стол.
В Лондоне ты таким же станешь.
Каким? — спросил Джеймс.
Который сам по себе. Одинокий ирландский парнишка, все такое.
Да много ты об этом знаешь, сказал Джеймс.
Уж достаточно, сказал Франсис.
Да ты, кроме как здесь, почти нигде и не бывал. Джеймс допил чай, съел две плюшки, понес чай Ллойду, сунув блокнот под мышку. Постучал ногой в дверь. Ллойд открыл, впустил его.
Спасибо, Джеймс.
Не за что, мистер Ллойд.
Ллойд взял у него еду, указал подбородком в сторону мастерской.
Заходи. Глянь. Скажи, что думаешь.
Джеймс снова прошелся вдоль картины.
Мне с каждым разом все больше нравится, сказал он.
Вот и хорошо.
Ллойд стоял в дверях мастерской, ел и пил.
Очень хочется при дневном свете увидеть, сказал Джеймс.
В свое время.
А можно открыть шторы?
Нет, Джеймс. Многовато тут недоброжелательных глаз.
Да уж, этого дела хватает.
Ллойд улыбнулся.
Твоя бабушка увидит — сбросит меня с утеса. Верно, мистер Ллойд.
А Франсис меня пристрелит.
Верно. Будете вы мертвым вдвойне.
Ллойд встал с ним рядом.
Может, Франсису и понравится, Джеймс. Кровь
солдат течет в море.
Он будет смотреть только на маму. Потом на себя.
Ты прав, Джеймс.
Джеймс засмеялся.
У них пар из ушей пойдет, мистер Ллойд.
Тебя послушать, ты этого ждешь не дождешься. Это верно.
А прабабушка что скажет?
Поди догадайся. Она всегда священников меньше бабушки слушала.
Но она же молится?
Еще как. Днем и ночью. Но только Богу. На священников с их предписаниями у нее времени нет.
То есть она с ним напрямую.
Без посредников, мистер Ллойд.
Джеймс вернулся к работе над картиной. Ллойд остался стоять перед холстом, разглядывая Марейд, сияние ее кожи, отсветы которого мерцают на окруживших ее островных, животных, камнях, высушенной ветром траве. Прошелся вдоль холста, проверяя, анализируя, поглядывая в зеркало, не сбился ли где в масштабе, бормотал на ходу — себе, Джеймсу: это моя лучшая картина, Джеймс, мой шедевр, этот мастодонт станет моим возвращением, новой визитной карточкой, он вскружит голову наполовину жене, превратит забытого отвергнутого непризнанного художника в знаменитость, поставит его в один ряд с Фрейдом, Ауэрбахом, Бэконом. Нет, рассмеялся он. Нет. Даже выше. Выше их всех. Выше всех этих душечек дельца — мое эпохальное произведение отодвинет их в сторону, сведет на нет их потуги, да и сами они покажутся настолько незначительными, что жена наполовину станет женой полностью и, став полностью женой, будет меня продвигать, повесит это судьбоносное произведение искусства на стену своей прославленной галереи, недосягаемой мечты каждого, и на открытии станет превозносить меня как Гогена Северного полушария, английского