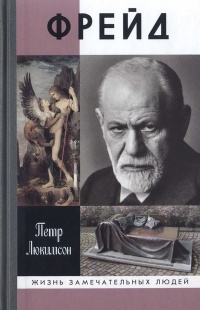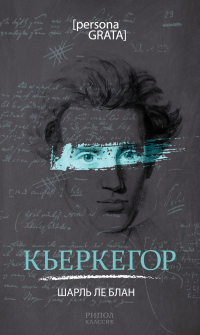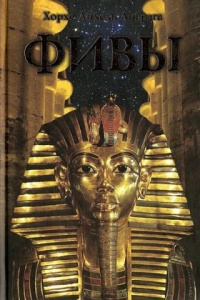Нечто схожее, но имеющее несколько иной оттенок, наличествует и в беседе, от которой Руссо безнадежно надеется найти спасение в переписке. Как долго автор письма ни подбирал бы выражения, конечный результат всегда упирается в своеобразный стеклянный потолок. Последний указывает не столько на то, до какой степени высказывающийся ориентируется в востребованных в покоряемом им обществе должных ответах и насколько хорошо умеет изобретать их по каждому новому случаю заново, сколько свидетельствует о том, что даже самое умелое светское эпистолярное повествование крайне неважно справляется с донесением nature, но зато чрезвычайно редко способно скрыть attitude, особенно если оно носит ненадлежащий характер.
На первый план, таким образом, выходит вопрос «знания» в той его перспективе, в которую он был помещен вследствие первых психоаналитических открытий и в дальнейшем эволюционировал в структурном психоанализе, достигнув там значительного укрепления и прогресса в свете открытого Лаканом и частично перенятого Деррида представлением о т. н. явлении синхронии. Точно так же как в психоаналитическом процессе не допускается, что анализант «не знал» о том, к чему его собственное, не принесшее успеха поведение могло его привести, вследствие чего само высказанное им удивление по поводу неприятного и неожиданного происшествия непременно будет истолковано аналитиком соответствующим образом; так же и лицо, совершившее тот или иной светский жест, не могло не «знать» о его последствиях, и ссылки на неопытность и малую степень понимания контекста в этом случае всегда будут приниматься этим обществом со значительным недоверием. В то же время нет никаких сомнений, что знать в этом случае не означает отдавать себе отчет: вполне достаточно, что знание сработало как таковое, приведя к тем или иным последствиям. Знание в этой перспективе – это то, что как раз позволяет субъекту не знать, то есть передоверить знание соответствующей инстанции.
Пространство светского общества, таким образом, организовано так же, как и открытое психоанализом бессознательное, представляющее собой знание, чреватое тревогой и, вследствие этого, промахом, ведущим к образованию знания в другом месте, овнешненном по отношению субъекту. Светское общество так же, как и психоаналитик, прекрасно может судить о том, какого рода предварительный промах привел к появлению неловкого или ошибочного высказывания и последовавшей за ним немилости, тогда как от самого субъекта эта сторона зачастую остается сокрыта. Эту вторичную реорганизацию знания в другом месте психоанализ в конечном счете и называет «симптомом».
Именно синхрония знания и поступка – а вовсе не так называемая ненаходчивость в качестве индивидуального проявления – приводила Руссо в подлинное отчаяние, потому что тот единственный режим высказывания, который к проблеме attitude был нечувствителен (поскольку приветствовал его выражение в любом виде, в том числе в виде дурного, несговорчивого характера), находился в измерении не светской, а публичной речи – той самой, в сфере которой Руссо чувствовал себя куда как более привольно, и где он действительно царил благодаря оригинальным и запальчивым публикациям.
Публичное, таким образом, являет себя как противопоставление светскому, поскольку хотя первое и представляло собой secularity, но не представляло society в смысле high, «высшего света», позволяя субъекту «говорить» то, что он «думает» или, по крайней мере, создавая иллюзию подобной возможности. Там, где публичность еще не была тронута открытой структуралистами угрозой «идеологической хрупкости» в связи с неразличенностью используемых означающих, она функционировала вопреки канону светской речи высшего общества. Последнее, как известно, никогда не представляло собой некий однозначно заданный по высоте уровень и могло обнаружиться где угодно. Так, герой бальзаковских «Утраченных иллюзий», Люсьен Шардон из т. н. высшего общества провинциального Ангулема – этой типичной «дыры с претензиями» – практически без какой-либо принципиальной проволочки перемещается в «настоящее» парижское высшее общество, обнаруживая между обоими светскими кругами разницу в плотности интриг и размерах доходов, но отнюдь не в объемах тщеславных страстей, делающих эти общества при всей разнице их масштабов практически неотличимыми, на что Бальзак в повествовании и сделал нарочитый дидактический упор, лишь едва прикрытый фабулой, обрекшей героя покорить первое общество и быть изгнанным из второго.
В этом смысле наиболее важной общей чертой всех светских обществ предстает порядок высказывания, базирующийся на том, что извне можно прочесть как речевое кокетство, жеманную уклончивость выражения, но что на деле представляет собой основополагающую структурную черту светской речи, связанную с функционированием в ней элемента, требующего обходного маневра, движения по касательной – того самого, который в посвященным страстям наиболее известном своем семинаре Лакан описывает в виде наличия в поле неприкасаемой вещи, das Ding, непререкаемо задающей траекторию уклона, призванного ее обойти. Речь срывающего покровы памфлетиста, обличающего публициста, рвущегося к власти политика или ученого, высмеивающего широко распространенные невежественные предрассудки, напротив, к необходимости этого уклона в глазах носителей светской культуры или нечувствительна, или же, что еще хуже и преступнее, его насильственно преодолевает.
Именно с этим связано затронутое в лекции о Фуко щекотливое положение современного активизма в глазах более-менее аполитичной интеллектуальной общественности, где, невзирая на постоянно поддерживаемую в этой общественности внутреннюю оппозиционность к государственным силам и условно лояльным им массам, в самом переживании этой щекотливости по сравнению с последними не обнаруживается никакого отличия. С точки зрения носителя университетской или иной, схожим образом ранжирующей культуры, активистская субъектность, даже порой выражающая затаенные политические воззрения самого интеллектуала, до сих пор представляет собой явление стигматизированное, требующее более-менее явного размежевания. Это положение вещей, меняющееся гораздо медленнее, чем самим активистским кругам, безусловно, хотелось бы, несомненно, восходит к «преступности» совершаемого в них отказа соблюдать светский режим высказывания.
Напротив, публичное измерение речи не предполагает никаких претензий, связанных с предположением наличия у высказывающегося знания о том, к чему его слова могут привести. Более того, пространство публичности никакого отношения к синхронической реорганизации знания не имеет вовсе, поскольку публичное лицо, как всем хорошо известно, может в наиболее злокачественных случаях нести любую ахинею и превосходно сохранять при этом свое положение, что, в частности, первые лица современных государств неустанно собственным примером подтверждают. Само представление о необходимости тщательно выверять свою речь, если она озвучивается публично, воспринимаясь в качестве общеэтического предписания и тем самым ошибочно поверяясь такими категориями, как «достоинство» и «ответственность», на деле восходит к проникшим в ситуацию публичного высказывания элементам светского режима.
Само различие между этими режимами позволяет сформулировать, в чем именно заключалось основное метафизическое заблуждение Руссо, рассчитывающего добиться успеха в обоих направлениях и при этом поверявшего успехом в публичной сфере рост своей влиятельности в светском обществе. Пункт этот являлся для Руссо местом самого ожесточенного запирательства – большая часть, если не весь объем предпринимаемых им усилий, воплощенных в «Исповеди», служил бесперебойному переведению создаваемого им масштабного конфликта режимов на язык перипетий «субъективной» душевной жизни и мелких социальных взаимодействий. Характерной иллюстрацией выступают заявления наподобие следующего: «Меня обвиняли в желании быть оригинальным и не поступать, как другие. А на самом деле я вовсе не думал ни о том, чтобы поступать, как другие, ни о том, чтобы поступать иначе, чем они. Я искренне желал поступать хорошо».