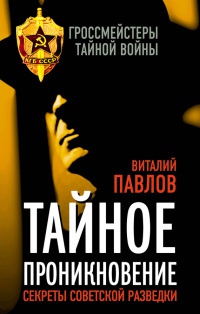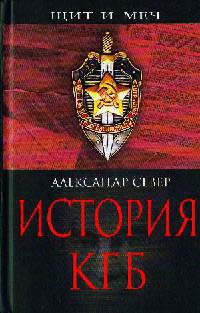Ох, как скучна работа нашего шпиона! Она состоит из бесконечных собраний и заседаний, написания множества планов и отчетов. На живую оперативную деятельность остается совсем мало времени. Но даже за несколько часов, отпущенных на шпионаж, разведчик получает возможность особенно остро ощутить непередаваемый аромат Страны восходящего солнца…
Токийское отделение ТАСС начинает работу рано, в 8 утра, когда все остальные советские корреспонденты еще спят. Беспокоить их дома в этот час не принято.
Вот и в моей квартире на третьем этаже небольшого тассовского здания, расположенного на границе районов Синдзюку и Сибуя, возле станции метро «Хацудай», зазвонил будильник.
Я отчетливо слышал его громкий звон, но не мог пробудиться. Вчерашний день потребовал от меня колоссального эмоционального напряжения. До одиннадцати вечера я сидел в ресторане с агентом-китайцем и, желая упрочить отношения с ним, клялся ему в дружбе от имени и ТАСС, и КГБ, и всего советского народа. Агент отвечал тем же, и наполненные до краев пивные кружки то и дело взлетали над нашим столиком в приветственном тосте.
Выйдя из ресторана, я решил на всякий случай проверить, не засекла ли наш контакт японская контрразведка, и еще час блуждал по полупустому ночному Токио. Пересаживаясь с метро на такси, забредал пешком в такие узкие переулки, что, если бы за мной была слежка, она непременно обнаружила бы себя, потому что ночью ей нельзя замаскироваться в толпе.
Слежки не было, и я облегченно вздохнул. Я радовался удачно проведенному дню, и только сейчас дала себя знать дневная усталость. Но это была приятная усталость, ибо несла в себе ощущение выполненного долга.
Сладостно изнемогая от нее, я лишь за полночь добрался до дому и собирался тут же лечь спать, но передумал: решил по русской привычке часок насладиться уютной тишиной спящего дома. Сев за стол в пустой кухне, я налил в бокал моего любимого красного сухого вина, которым славится префектура Яманаси, и стал листать новый номер московского литературного журнала «Юность», в котором иногда появлялись и мои очерки. А тем временем в ночной тишине гудел, закипая на плите, чайник…
— Скорее вставай! — трясла меня за плечо жена. — Ты опаздываешь, коллеги подумают, что специально являешься позже, чтобы продемонстрировать свое превосходство!..
Я в ужасе взглянул на часы. Они показывали десять минут девятого. Быстро собравшись, я побежал вниз, в офис…
Коридор на первом этаже, ведущий в рабочую комнату, был узким. Сейчас в нем громоздились одна на другой большие картонные коробки, аккуратно сложенные японскими грузчиками вдоль стены. Наши, разумеется, побросали бы их как попало.
В этих коробках находилось электронное оборудование для скоростной связи с Москвой, которым предстояло заменить устаревшие телетайпы, а заодно избавиться и от четырех операторов-японцев, прослуживших здесь долгие годы. Б последние месяцы мы, корреспонденты, старались не заходить в комнату телетайпистов, где царила напряженная тишина. А если приходилось очутиться там по долгу службы, то невольно испытывали чувство вины…
Комната корреспондентов была набита битком. За письменными столами, расставленными вдоль стен, сидело около десяти мужчин в возрасте от тридцати до пятидесяти лет, попыхивая сигаретами и трубками, стуча по клавишам пишущих машинок и возбужденно переговариваясь друг с другом. Дух творчества витал в воздухе…
Перед каждым лежала стопка японских газет. Найдя в ней заслуживающую внимания новость, они быстро перетолмачивали ее на русский язык, слегка изменяя акценты, кое-что недоговаривая или, наоборот, преувеличивая, и в итоге информация приобретала совершенно иной смысл, выгодный советскому руководству, хотя в ней и содержалась ссылка на «Нихон кэйдзай», «Асахи» или «Иомиури».
К одной только «Акахате» корреспонденты ТАСС относились с уважением и опаской. Как известно, коммунисты всех стран, а не одной лишь Японии, склочный народ, и очень любят жаловаться и скандалить. ЦК Японской компартии внимательно читал советскую прессу и, если видел хоть малейшее искажение смысла статей своего органа «Акахата», тотчас посылал жалобу в московский ЦК, что грозило корреспонденту очень большими неприятностями. Поэтому пассажи из «Акахаты» мы старались переписывать слово в слово…
Все были одеты по-домашнему: в рубашки с расстегнутым воротом, мягкие бархатные брюки, домашние тапочки, и лишь у старшего по чину, заведующего отделением ТАСС, болтался на шее серый галстук-селедка, который он то и дело закидывал за спину. Звали его Алексей.
Кроме того, почти все они были агентами КГБ. Впрочем, каждый держал это обстоятельство в тайне и точно знал лишь о собственной принадлежности к агентурной сети, а об остальных только догадывался. И разумеется, никто из них не мог с уверенностью сказать, что все его коллеги — агенты, а не половина их или четверть. И только я один знал это точно.
Когда КГБ вербует человека, будь то соотечественник или иностранец, он старается внушить своей очередной жертве, что о ее позорном — хотя порой и вынужденном — промысле будут знать только два или, самое большее, три человека: чекист, завербовавший агента, и его непосредственные начальники. Именно для этого, объясняют агенту, ему и присваивают псевдоним, которым он должен отныне подписывать свои доносы. Это делается для того, чтобы даже если этот донос случайно увидит другой сотрудник КГБ, он не смог бы понять, кто на самом деле его написал.
В жизни же все обстоит по-другому. Любая конфиденциальная информация расходится внутри резидентуры, как круги по воде.
Например, заехав случайно в магазин «Мицукоси», я вижу, как офицер безопасности советского посольства выбирает себе в отделе больших размеров пиджак. Но профессиональным глазом разведчика я также замечаю, что при этом он кого-то ждет.