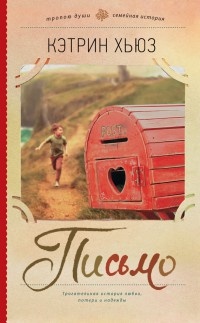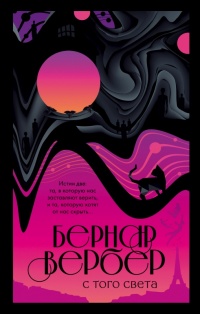Но теперь невозможно было избавиться от своих мыслей-тюремщиков даже здесь. Думалось только о ней, и даже движениями кисточки я блуждал по лабиринтам обид-желаний и видений-жалоб.
Кстати, день за днем горниловский дом расцветал все новыми узорами: Чепнин притащил большие банки дешевой эскизной краски и расписывал балки в прихожей, дверцы кухонного шкапчика, оконные переплеты и крышку у чайника. Незакрашенные участки были незавоеванными провинциями его империи.
В понедельник я попытался сбежать. Не пошел ни в библиотеку, ни на Бонч-Бруевича, а поехал на ВИЗ. Там в озерной дали меня ждал мой остров.
На ВИЗе было тихо и пустынно. По всей глади уходящих вдаль вод виднелось всего две-три лодки. Пляж и пристань свежели безлюдьем.
Мне выдали лодку и весла. Лопасти весел были выкрашены суриком. Я положил на банку пакет с книгами и бутербродами, потом оттолкнул веслом громыхнувшие сходни.
Было пасмурно, но все же довольно жарко. Наклон, взмах весел, лопасти вплескиваются в темную пузырькастую воду – и мне делается чуть-чуть легче. Это длится мгновение, потом хаос смыкается и нужно опять грести, спасаться усилием, брызгами и девчачьим запахом озерной воды.
Все, что не было мной, было хорошо. Я бы хотел отделаться от себя, перестать замечать свои чувства, замутняющие образ мира. Но почему-то почти ничего, кроме меня и Нади, вокруг не было. Теснились и мешали друг другу (и мне тоже) картины наших встреч, мои глупые реплики по телефону, я бессознательно пытался вспомнить и вдохнуть ее запах. Надя торчала отовсюду, как заноза, которую я уже почти мечтал вытащить.
12
На острове было все таким же, как и раньше, только тусклее. Я затащил лодку на берег, посмотрел на красные, жужжащие после весел ладони. Искупался и стал прыгать, чтобы не замерзнуть. Саднящая кожа на ладонях, холод донных родников, глина, измазавшая ноги, мурашки на мокрой после купания коже, – это было хорошо.
Но когда я обсох и согрелся, избавившись от резких ощущений, то понял, насколько невозможно прежнее спокойное созерцание воды и шелестящих ивовых листьев. Я сел на берегу, положил на колени книгу. Ионийский ордер, золотое сечение, скопасы, зевксисы и паррасии только раздражали своей неутешительностью: они были ни при чем.
Пробыв на острове всего полчаса, я поплыл обратно. Старался плыть подольше, выписывая по озеру загогулины высшего пилотажа. Двойной иммельман, тройную бочку, батман с подскоком. Точно от чувств можно убежать, уплыть или отлететь.
* * *
Духота покачивающегося трамвая, радостные толпы зелени в раскрытых окнах. Гудки, прохожие, центр.
* * *
Моя картина была в целом дописана. Но все же на нее нужно было смотреть. Я знал, что смотреть на уже написанную картину – часть работы художника. Даже если смотришь через десять лет после того, как высохли краски.
* * *
В круге от зеркала плескалось солнце. Как будто стена хранила память обо всех отражениях, просочившихся вглубь за стекло.
Чепнин с осенне-желтеющим фингалом был на месте и работал. Кот вылизывал заднюю лапу.
– Слышь, пионер, поучаствуй, – сказал Че. – Впиши свою страницу.
– В смысле?
– Нарисуй здесь что-нибудь этакое. Как ты умеешь.
– Я? Здесь? Да тут и так все распрекрасно!
– Не боись, будет то, что надо.
Он стоял среди пустой комнаты босиком. Пальцы у него были в краске: писал руками. Вот так я его и запомнил: раскрашенное в драке лицо с поповской бородкой, растопыренные пальцы, измазанные в синем кобальте, дирижерские жесты, а рядом кот с оранжевой отметиной между ушей. Когда вспоминаю Чепнина, вижу именно это.
* * *
Андрей дирижировал кисточкой и пытался мне что-то объяснять. Не уверен, что понял все правильно (об искусстве Чепнин говорил через пень-колоду, да и то с трудом), но основная тема была такова. Говорю своими словами и даже своими аналогиями. Примерно так: все образы идут свыше, из общего источника, просто растекаются по разным головам, как по рукавам реки. Кажется, что все разное, где-то вода светлая, где-то мутная, где-то быстрая, где-то тихая... Если не видеть цельной картины, кажется, все идет из разных источников. Но когда художники забудут о разногласиях и станут артельно украшать мир, вот тогда этот самый источник будет виден всем. То есть общая работа разных глаз и рук должна открывать Бога. Такая вот теория. А может, я что-то неправильно понял.
* * *
Ну, не знаю. Чтобы Шагал и Илья Глазунов черпали из одного источника? Писать одновременно на одном полотне икону и карикатуру и еще бог знает сколько всего? Впрочем, в мире ведь уживается столько несоединимого... Даже у Сальери и Моцарта в музыке много общего.
* * *
То ли я тогда плохо соображал, то ли увлекся этой теорией, только взял на подоконнике кисточку Че. Обмакнул в желтый кадмий... Потом отложил:
– Нет, не могу, – говорю. – Ничего не получится.
– Не ссы, не ссы, художник!
Но меня охватил столбняк протеста, я бы скорее нарисовал у себя на лице.
– Пойдем в твой рай, я покажу.
Вот тут я испугался. Сказать, что в моей картине все и так хорошо, что не надо ее трогать? Нет, я не мог это сказать. «Только не лица! Только не лица!» – заклинал я беззвучно. Но Че почти ничего не сделал. Смотрел-смотрел, а потом в уголке нарисовал что-то вроде хризантемы. Не садовой, а какой-то первобытной. Рой мазков, похожих на цветок. Хризантема так и пламенела, перезваниваясь с чешуей золотых рыб!
– Где-то так... – скромно проговорил Чепнин, шмыгнув носом. – Где-то так. Послезавтра придет Валера. Меня проводим.
– Откуда ты знаешь, что он придет?
– Так он сам сказал.
– Он тут был?
– Да, вот недавно только ушел.
Черт! Надо же мне было отсутствовать как раз тогда, когда тут находился Горнилов, которого я не встречал с зимы! Он видел мою картину, мог бы мне что-то сказать. Он всегда мог сказать такое, из-за чего хотелось еще что-то нарисовать, сочинить. Вообще жить. Ладно, уж послезавтра-то мы увидимся.
* * *
А потом я сидел на табуретке и смотрел на свою картину. Фигуры любовников светились изнутри сонным огнем. Поблескивали рыбьи ручьи. Наливалось грозой близкое небо.
13
На следующий день утром у меня был экзамен, а у Нади – зачет по английскому. И у нее, и у меня на этом сессия заканчивалась. Дальше были два дня установочных лекций и – прощай Сверловск.
* * *
Античка начиналась в десять. Не было сил на страх, к тому же в голове хранились кое-какие знания с прежних времен. Я зашел в аудиторию, поздоровался негромко и четко, вытянул билет и сел готовиться. Первый вопрос был о крито-микенском периоде архитектуры, второй касался скульптуры Мирона. Про архитектуру я кое-что написал на листочке, а скульптуру решил отвечать экспромтом. Когда место перед преподавателем освободилось, я легко встал и подошел к столу. Перед ответом посмотрел в глаза Ольге Юрьевне, нашей преподавательнице античного искусства, и отметил про себя, что они карие, как жженый сахар. Ольга Юрьевна поправила прическу.