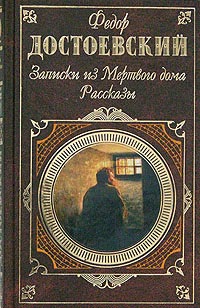– Вы кончили? – спросила она.
– Нет еще; для полноты мне надо бы, если позволите,допросить тут кое в чем вот этого господина… Вы сейчас увидите, в чем дело,Варвара Петровна.
– Довольно, после, остановитесь на минуту, прошу вас. О, какя хорошо сделала, что допустила вас говорить!
– И заметьте, Варвара Петровна, – встрепенулся ПетрСтепанович, – ну мог ли Николай Всеволодович сам объяснить вам это всё давеча,в ответ на ваш вопрос, – может быть, слишком уж категорический?
– О да, слишком!
– И не прав ли я был, говоря, что в некоторых случаяхтретьему человеку гораздо легче объяснить, чем самому заинтересованному!
– Да, да… Но в одном вы ошиблись и, с сожалением вижу,продолжаете ошибаться.
– Неужели? В чем это?
– Видите… А впрочем, если бы вы сели, Петр Степанович.
– О, как вам угодно, я и сам устал, благодарю вас.
Он мигом выдвинул кресло и повернул его так, что очутилсямежду Варварой Петровной с одной стороны, Прасковьей Ивановной у стола сдругой, и лицом к господину Лебядкину, с которого он ни на минутку не спускалсвоих глаз.
– Вы ошибаетесь в том, что называете это «чудачеством»…
– О, если только это…
– Нет, нет, нет, подождите, – остановила Варвара Петровна,очевидно приготовляясь много и с упоением говорить. Петр Степанович, лишьтолько заметил это, весь обратился во внимание.
– Нет, это было нечто высшее чудачества и, уверяю вас, нечтодаже святое! Человек гордый и рано оскорбленный, дошедший до той«насмешливости», о которой вы так метко упомянули, – одним словом, принц Гарри,как великолепно сравнил тогда Степан Трофимович и что было бы совершенно верно,если б он не походил еще более на Гамлета, по крайней мере по моему взгляду.
– Et vous avez raison,[106] – с чувством и веско отозвалсяСтепан Трофимович.
– Благодарю вас, Степан Трофимович, вас я особенно благодарюи именно за вашу всегдашнюю веру в Nicolas, в высокость его души и призвания.Эту веру вы даже во мне подкрепляли, когда я падала духом.
– Chère, chère… – Степан Трофимович шагнулбыло уже вперед, но приостановился, рассудив, что прерывать опасно.
– И если бы всегда подле Nicolas (отчасти пела уже ВарвараПетровна) находился тихий, великий в смирении своем Горацио, – другоепрекрасное выражение ваше, Степан Трофимович, – то, может быть, он давно ужебыл бы спасен от грустного и «внезапного демона иронии», который всю жизньтерзал его. (О демоне иронии опять удивительное выражение ваше, СтепанТрофимович.) Но у Nicolas никогда не было ни Горацио, ни Офелии. У него былалишь одна его мать, но что же может сделать мать одна и в такихобстоятельствах? Знаете, Петр Степанович, мне становится даже чрезвычайнопонятным, что такое существо, как Nicolas, мог являться даже и в таких грязныхтрущобах, про которые вы рассказывали. Мне так ясно представляется теперь эта«насмешливость» жизни (удивительно меткое выражение ваше!), эта ненасытимаяжажда контраста, этот мрачный фон картины, на котором он является какбриллиант, по вашему же опять сравнению, Петр Степанович. И вот он встречаеттам всеми обиженное существо, калеку и полупомешанную, и в то же время, можетбыть, с благороднейшими чувствами!
– Гм, да, положим.
– И вам после этого непонятно, что он не смеется над нею,как все! О люди! Вам непонятно, что он защищает ее от обидчиков, окружает ееуважением, «как маркизу» (этот Кириллов, должно быть, необыкновенно глубокопонимает людей, хотя и он не понял Nicolas!). Если хотите, тут именно черезэтот контраст и вышла беда; если бы несчастная была в другой обстановке, то,может быть, и не дошла бы до такой умоисступленной мечты. Женщина, женщинатолько может понять это, Петр Степанович, и как жаль, что вы… то есть не то,что вы не женщина, а по крайней мере на этот раз, чтобы понять!
– То есть в том смысле, что чем хуже, тем лучше, я понимаю,понимаю, Варвара Петровна. Это вроде как в религии: чем хуже человеку жить иличем забитее или беднее весь народ, тем упрямее мечтает он о вознаграждении враю, а если при этом хлопочет еще сто тысяч священников, разжигая мечту и наней спекулируя, то… я понимаю вас, Варвара Петровна, будьте покойны.
– Это, положим, не совсем так, но скажите, неужели Nicolas,чтобы погасить эту мечту в этом несчастном организме (для чего Варвара Петровнатут употребила слово «организм», я не мог понять), неужели он должен был самнад нею смеяться и с нею обращаться, как другие чиновники? Неужели выотвергаете то высокое сострадание, ту благородную дрожь всего организма, скоторою Nicolas вдруг строго отвечает Кириллову: «Я не смеюсь над нею».Высокий, святой ответ!
– Sublime,[107] – пробормотал Степан Трофимович.
– И заметьте, он вовсе не так богат, как вы думаете; богатая, а не он, а он у меня тогда почти вовсе не брал.
– Я понимаю, понимаю всё это, Варвара Петровна, – несколькоуже нетерпеливо шевелился Петр Степанович.
– О, это мой характер! Я узнаю себя в Nicolas. Я узнаю этумолодость, эту возможность бурных, грозных порывов… И если мы когда-нибудьсблизимся с вами, Петр Степанович, чего я с моей стороны желаю так искренно,тем более что вам уже так обязана, то вы, может быть, поймете тогда…
– О, поверьте, я желаю, с моей стороны, – отрывистопробормотал Петр Степанович.
– Вы поймете тогда тот порыв, по которому в этой слепотеблагородства вдруг берут человека даже недостойного себя во всех отношениях,человека, глубоко не понимающего вас, готового вас измучить при всякой первойвозможности, и такого-то человека, наперекор всему, воплощают вдруг в какой-тоидеал, в свою мечту, совокупляют на нем все надежды свои, преклоняются предним, любят его всю жизнь, совершенно не зная за что, – может быть, именно зато, что он недостоин того… О, как я страдала всю жизнь, Петр Степанович!
Степан Трофимович с болезненным видом стал ловить мойвзгляд; но я вовремя увернулся.
– …И еще недавно, недавно – о, как я виновата предNicolas!.. Вы не поверите, они измучили меня со всех сторон, все, все, и враги,и людишки, и друзья; друзья, может быть, больше врагов. Когда мне прислалипервое презренное анонимное письмо, Петр Степанович, то, вы не поверите этому,у меня недостало, наконец, презрения, в ответ на всю эту злость… Никогда,никогда не прощу себе моего малодушия!
– Я уже слышал кое-что вообще о здешних анонимных письмах, –оживился вдруг Петр Степанович, – и я вам их разыщу, будьте покойны.