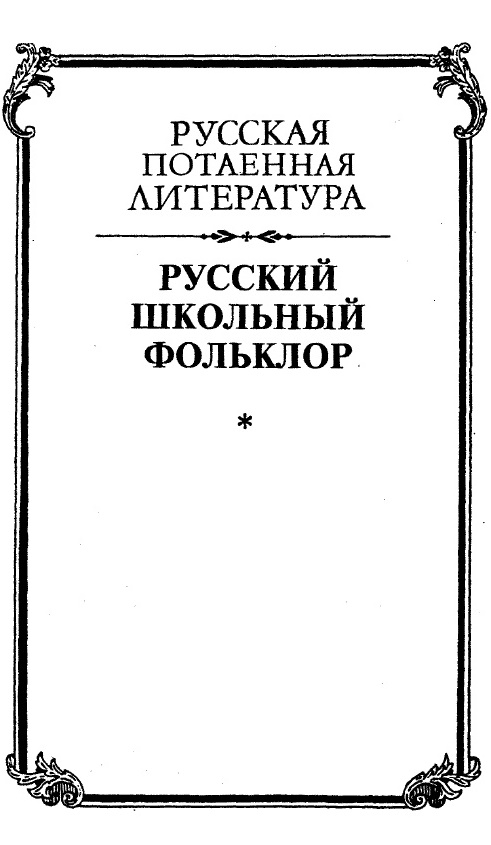самую крупную в истории человечества континентальную империю, превзошёл, по его мнению, даже легендарного Александра Македонского, а вот злопыхать насчёт его малограмотности в политических науках так легкомысленно и нагло явно не стоило. Книжек такого рода ещё в юности и особенно в местах ссылок почитал он немало, благо товарищам присылали их ящиками — разрешалось, были бы деньги. Жадных среди политических на это добро не водилось, делились с охотой научными трудами классиков, а некоторые, зная наизусть отдельные места из прочитанного, цитировали с воодушевлением. Видя его горящие глаза, без тени зазнайства разъясняли сложные, казалось бы, вопросы, а то, заспорив меж собой, устраивали такие глубокие дискуссии, что после этого Смита, Фейербаха, Шопенбауэра или Ницше тревожить не стоило, добирались до Конфуция и Спинозы. Сам он зачитывался Вольтером и Руссо, предпочитал с гимназических пор чтиво лёгкое и захватывающее. Увидев однажды на столе у товарища "Государя" Макиавелли[100], попросил на ночь и, проглотив до утра, "зачитал" насовсем, не расставаясь с поразившей его книжкой и по взрослости, другим на глаза не показывал, прятал, перечитывая и заучивая наизусть отдельные наставления. А вот бородатый немец с его многочисленными нудностями пришёлся Кобе не по вкусу. Германских умников он почему-то вообще терпеть не мог, но зная отношение к сочинениям Ленина, не раз с тоской брал перед сном в руки "Капитал" и отбрасывал через несколько минут, крепко засыпая. Наука, как делаются деньги и состояние, не интересовала его, он сам довольно рано научился завладевать чужим добром гораздо проще и быстрее с меньшими затратами. Скуки ради, он всё же пролистал "Манифест", отметив пришедшиеся по душе последние строчки[101]. На большее не снизошёл, мрачно сетуя над судьбой человека, величаемого уже при жизни толпой умников великим гением, хоронить которого не набралось и дюжины.
Коба выбил трубку, набив заново ароматной и крепкой "Герцеговиной флор", жадно затянулся и вдруг закашлялся.
"И всё же доставляет хлопот этот Бухарин! — мелькнуло в сознании. — Не то чтобы всерьёз кусался клоп, но допекает постоянно, кровь пьёт, словно вошь. С шаржами унялся, остепенившись, занялся статейками в газетах да трактатами по поводу нэпа, строчит их и к завтраку, и к ужину поспевает, ошарашивает обывателя заумной трескотнёй…"
Он наконец прокашлялся, заглянул в туалет прочистить нос. Тревоги не покидали его, и здравый рассудок подсказывал: Бухарин — это лишь выскочивший наружу прыщ, опасаться следует тех, выразителем чьих идей он является, кто за ним стоит.
Коба всё же отпер замок ящика; нет, не интересовал его старый клочок листка с карикатурой, он вытащил и разложил перед собой последние газеты со статьями, помеченные им же красным карандашом. Вгорячах стал вчитываться в подчёркнутые строчки то одной, то другой статьи, но в конце концов бросил это занятие — минутный нервный стресс покинул его.
Кто теперь опаснее?.. Кто ближайший реальный противник?.. Кем раскручивается эта ужасная кровавая камарилья?..
Он обхватил голову обеими руками, ясности сознанию не доставало, видно, начинали сказываться ночные часы. Но он пересиливал себя, напрягая и напрягая мозг…
Что удалось сделать?.. Повержен и сгинул Свердлов — ненавистный главный когда-то соперник за власть. Его кончина и похороны прошли как-то по обыденному незаметно. Партийные карлики, сторонясь закрытого гроба, семенили на расстоянии, опасаясь заразы. Он тогда зорко следил за каждым, прячась за спинами. Старики большевики пошушукались меж собой, догадываясь, что не в пресловутой испанке причина, но рта открыть никто не посмел. Несимпатичен он им был, уральский молодой выскочка, не по нраву пришлось бесцеремонное его поведение после выстрелов в великого их кумира, кремлёвским царьком — самозванцем заскочил тот в освободившееся кресло председателя Совнаркома, команды раздавал направо и налево, с мнением других не считался, держал при себе лишь Дзержинского с подручными, а тот никого к нему не подпускал, исполнял любое желание, как верный цепной пёс. Учинил он собственное скоротечное следствие, уничтожил все следы преступления, приказав сжечь и труп сумасшедшей фанатички, закрыл дело.
Почуяв себя полегче, не вытерпел, взмолился сам больной о возвращении в Кремль, мелькнуло, видно, в его мерцающем сознании, что, проваляйся в постели и далее, уплывёт насовсем из-под задницы кресло правителя республики. С руганью выбирался тогда больной вождь из глухой деревушки. Но покомандовать особо не смог, жестокий недуг, прицепившись основательно, свалил его заново.
Тогда-то Коба окончательно определился в решении, что пора вмешиваться, пора укорот дать ушлому уральцу, бывшему сотоварищу по царской ссылке. В коварных способностях его он не сомневался, помнил, как тот, издеваясь, громил его в шахматных баталиях; настала очередь отомстить за всё.
Ну а позже, лишь приступил к обязанностям новый председатель ВЦИК, безликий и бессловесный Калинин, как раз до второго удара, свалившего вождя всерьёз[102], решил Коба поинтересоваться причиной затянувшихся страданий умиравшего, не раз обращавшегося к нему за ядом, чтобы избавиться от непереносимых болей. Вождь, к общей радости, чувствовал себя в то время вполне нормально, хотя стал теперь подозревать, будто болен прогрессирующим параличом, но Коба всё сделал, чтобы убедить страдальца в необходимости срочной операции и удалить, наконец, последнюю пулю, возможную причину всех бед: вдруг в ней содержался и ещё содержится медленно действующий неизвестный яд. Арестованные по делу эсеров Семёнов и Коноплёва божились на следствии, что лично начиняли пули ядом, Ягоде по его поручению удалось отыскать их лабораторию и обнаружить смертельно-опасные запасы — эти аргументы Кобы убедили вождя; умирающему, как известно, лишь протяни соломинку. Ну а Кобу уже мучило другое: если пуля окажется с нетронутой, с неповреждённой оболочкой, придётся ломать голову над новой закавыкой — искать более эффективное средство…
В апреле под большим секретом Ленина доставили на Ходынское поле в Солдатенковскую больницу. Пациент сильно переживал; кто-кто, а он прекрасно знал Кобу, умевшего разделываться с политическими соперниками чужими руками, поэтому пациент потребовал, чтобы операцию делали иностранцы и желательно немцы в присутствии высокопоставленных лиц, тоже соображавших в медицине. Кобу покорёжило от явного недоверия, но он сдержался, потому что не задумывал творить худого дела на глазах всего мира. За происходящим в Кремле, за болезнью вождя первой на планете победившей революции следили не только вся страна, а всё цивилизованное человечество. Коба отдавал отчёт, что рискует и сам, что его судьба, как политического деятеля, висит на волоске и полностью зависит от результатов операции. Случись с пациентом непоправимое, в последствиях обвинят только его одного. Убил, зарезал — а больше ничего не скажут.
Но он сознательно пошёл на это. Ему осточертело ждать, играть затянувшуюся и мучительную комедию, корча из себя страдающего