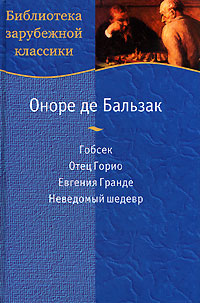что ангелы «в венцах цветками амаранта да золотом обвитых» играют на флейтах, гобоях и трубах; кому скрипичная, те выскажутся в пользу скрипок и виолончелей; кому же по душе нечто пограндиознее, расписывают неслыханный симфонический оркестр и многомиллионные хоры из херувимов, серафимов и, поверишь ли, великомучеников, — дирижирует же всем этим эпическим ансамблем, как полагается, сам Христос. И так во всем остальном: кто пишет про сахарные ангельские поцелуи и нежнейшие объятия, лебяжьему пуху подобные; кто про восхитительные купания в Млечном Пути; кто про невиданные празднества, драматические постановки и блистательные балы, еженощно проводимые в астральных чертогах; кто про роскошество одеяний и украшений, в кои облачены окрыленные (причем par excellence («преимущественно») райская мода, как ни странно, отвечает эпохе, которой принадлежит автор), — тут уместно вспомнить попрек античного художника своему ученику: «Ты не умел написать Елену прекрасной, а потому написал ее нарядной»… Был, наконец, и такой достопочтенный пастор, кто в своем обстоятельном раеописательном труде отметил особое наслаждение для резидентов Елисейских Полей в созерцании того зрелища, какое представляют поднимающиеся из геенны столбы дыма, лишний раз напоминая праведникам об их неиссякаемом счастье в сравнении с неизбывными муками, претерпеваемыми грешниками, — и дабы торжествовать свое столь же отрадное, сколь и безусловное превосходство, святые воодушевленно запевают «Аллилуйя»…
«Да помилуют нас боги и герои за то, что мы столько наговорили о делах божественных!» — только-то и можно воскликнуть здесь, вторя Геродоту… Все это до того забавно, что воистину грустно, — поелику, как известно, нечто, достигнув крайности, становится собственной противоположностью…
Само собой разумеется, разработка столь величавой темы притязает на соответствующий уровень патетики, посему сочинения с заголовками «Regnum Caelorum» («Царство Небесное») традиционно завалены непомерными грудами эпитетов, изобилуют неприличными ворохами восторженных изумлений и несчетным повторением слова «блаженство». Выходит же в конечном счете следующее: если все подлунные ассоциации, акцидентально приписываемые раю, — такие как означенные выше: дивный аромат, вкусная пища и красивая музыка, — нам приближённо ясны, как отдаленно ясны ужасы и жестокости ада, то вот уразуметь, что такое это самое, заключающее в себе субстанциональную суть райского бытия, «небесное блаженство» — беспредельное и совершенное (какового одного, в принципе, было бы сполна без всего прочего) — отнюдь нелегко, тем паче, когда богословы клятвенно заверяют, что всеблаженствие сие сопоставимо с мирскими радостями в той же пропорции, в какой море сопоставимо с каплей. Люди же неизменно доверяются своим чувствам, а в данном случае их чувства немеют, — ибо приятна пища, приятна музыка, приятны ласки, торжества, наряды, но все это не более как утехи — кратковременные и преходящие, а никак не беззаветное счастье, никак не безущербное блаженство («Вполне несомненное благо, Сократ, это, по-видимому, счастье», — сказал Евтидем. «Да, Евтидем, — отвечал Сократ, — ежели не компоновать его из сомнительных благ»). И даже безотносительная беззаботность райского времяпровождения в той или иной степени смущает человека — существо по натуре своей деятельное, а зачастую, увы, пуще того — суетное… Когда же проповедники возглашают с амвонов, что Бог есть Любовь, и Царствие Его — Царствие Любви, — то и такой, казалось бы, безупречно-вдохновительный тезис западает в людские груди сродни аэролиту, с восьмой сферы слетевшему, который, покуда достиг земной тверди, весь выгорел и из пылающей громады стал мелким, едва теплым камушком; ибо в прозаичной реальности любовь и ненависть смешаны в почти однородную консистенцию, что вода с пеплом, — и лишь избранным героям дано испить чистой любви, не изведав горечи разочарования…
Вера для большинства есть не что иное, как надежда; но веровать значит сознавать уверенность, а надеяться значит питать грезы, то есть в большей ли, меньшей ли мере обманываться — страшиться (ведь как страху всегда сопутствует надежда, так и надежде неотъемлем страх). И люди, (почти инстинктивно) старающиеся держаться религиозных предписаний, (почти инстинктивно) не стремятся вникнуть, чем же конкретно окажется предлежащая им вечность (поскольку вникать — означало бы рубить хвосты своим химерам), и, как во многом другом (и куда более важном), беспечно полагаются в сем неразрешимом вопросе на «Господа Бога» (увы: «Ничто так не способствует душевному покою, как полное отсутствие собственного мнения»). Для них существенно иное: сия вечность все же предлежит, что утешает страх смерти (то бишь невообразимого небытия), и вечность сия не будет сопряжена с земными тяготами и инфернальными истязаниями, что утешает страх страданий (то бишь того, что земнородным всего ненавистней); ключевое же слово здесь — «утешает», которое вовсе не является эквивалентом слова «избавляет». А страх — это такая болезнь, что, ежели не исцелиться от нее начисто, она будет хронически возвращаться. Ибо что же есть страх, как не неуверенность? А что есть неуверенность, как не антитеза веры? Но коль нет веры — нет смысла. Но коль нет смысла — нет правды. Но коль нет правды — объявляется грех.
«Страх прогоняет и стыд, он и узы теснейшие дружбы
Врозь расторгает, и он извращает вконец благочестье».
Ибо греховность — свойство малодушия. Таким образом, равно как порочности противолежит добродетель, греху противолежит вера. Смысл веры — преодоление превратных страхов, в то же время цель добродетели (ее правда) — истинное благо. Посему невозможна подлинная вера без искренней добродетели, как невозможна подлинная добродетель без искренней веры.
Мне довелось провожать в последний путь не одну душу, и весьма нередко бывали оказии, когда те, кого именуют грешниками и нечестивцами (так как сердца их не прониклись предощущением потустороннего воздаяния, а умы не сподобились мудрости) с горькими потоками слез раскаивались на смертном одре в своих многочисленных винах: в неблагожелательности по отношению к людям и нерадивости по отношению к богу, — всеми фибрами духа уповая на безграничную милость господню, но не в силу того, что уверовали в загробное блаженство, а по слабости оттого, что убоялись загробного наказания. (Этот факт, мимоходом говоря, явно свидетельствует: страстные атеисты ничуть не здравомысленней страстных святош, — дерзостью, а не смиренностью, покрывающие ментальную ограниченность и моральную шаткость. Как однажды ad punctum («в точку») заметил мой знакомый капеллан: «Заядлое отрицание бога есть только-то вывернутая наизнанку богобоязнь». Ведь что такое, если разобраться, атеизм? Атеизм — это вера в то, что бога не существует (то есть негативное гипостазирование позитивного ничто). Ибо непознаваемое, — а Идея Бога именно такова, — не подлежит ни констатации, ни негации113, но брезжит на интуитивном ярусе сознания, где полновластие веры. И едва лишь хлипкая, не подкрепленная внятными суждениями вера напарывается на то или иное внешнее сопротивление, запросто разлезается на клочья страхов и надежд, из коих все суеверия скроены. Засим вывод: «Набожные боятся утратить Бога, атеисты —