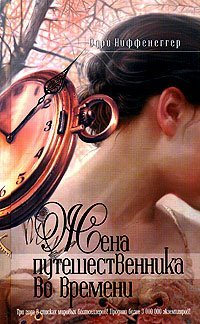Ознакомительная версия. Доступно 13 страниц из 65
Но они не только уговаривали ее стать секретарем директора, они – тетя Паша и тетя Валя – готовы были взяться и за меня. Ведь до самого этого дня Аня меня не трогала. Более того – она проявила максимум чуткости. Она не попрекала меня малым приработком. Она отпустила меня в деревню. Она полностью взяла, или, лучше сказать, пересадила Машку на свои молодые плечи. Словом, она понимала меня. Но это не значит, что она (они!) не собиралась взяться за меня всерьез, как только я приду в себя.
– Ты попробуй писать о дяде Вениамине, – так Аня начала.
И повторила, как повторяют приказ:
– Тебе надо написать повесть о дяде Вениамине.
Я, помнится, даже рот приоткрыл. Я полагал, что с этим покончено и что эта тема давно умерла. Или сам дядя Вениамин умер. Потому что речь о нем велась когда-то давным-давно.
– Это тот, с кем хотели познакомить? – невыразительно спросил я.
Аня кивнула. Стало ясно, что меня считают глубоко провинившимся.
– Ты будешь, Игорь, о людях писать типичных. О тех людях, которые живут рядом с тобой.
– Разве дядя Вениамин переселился?
– «Рядом с тобой» – в переносном смысле. Не остри. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю.
Она продолжала:
– …И с тобой больше никогда не случится того, что случилось. Пустоты этой не будет, вот увидишь.
– Аня, я ведь не жалуюсь.
– Зато я жалуюсь. (На что она жалуется, я не спросил – было ясно. Уехал. Бросил. Какой я муж?)
– Жаловаться – самое простое, – отмахнулся я.
– Я не на тебя жалуюсь.
– Вот тебе раз, – а на кого же? – Она заплакала:
– На жизнь.
Она сказала, что боится за Машку. И боится остаться одна. И за себя боится. И за меня тоже – тетя Паша и тетя Валя передали ей, что перед отъездом я был совсем плох и что именно с таким лицом кончают самоубийством.
– Велели припрятать в доме веревки?
– Вроде того. Велели внушать тебе, что жизнь – это чудо.
Слезы, впрочем, быстро просохли. Аня была человеком решительным.
– Игорь.
– Да.
– Сейчас ты будешь кормить Машу. Она ничего не ест…
Предполагалось, что кормежка дитяти явится для меня теперь чем-то вроде семейной терапии. Задумано, вероятно, было заранее и загодя, – но вдруг оказалось, что Машка голодна. Она вовсе не противилась. Она охотно ела. И заговорщицки на меня поглядывала.
– Хочешь мне что-то сказать? – шепнул я ей. Оставалось две ложки каши, и я уже ничем не рисковал.
Маша покачала головой: нет… и опять улыбнулась, вступая в какой-то неведомый мне заговор против матери.
– Она прекрасно ест, – сказал я Ане.
* * *
Они все-таки его привели, пригнали, как на веревке, – пожилого работягу, заматерелого, умного и тихого, – и вот дядя Вениамин сидел на стуле и потел крупными каплями, потому что ему уже сказали, что о нем будут писать книгу.
– Так… Значит, вы действительно спасали склад во время пожара? – без энтузиазма спрашивал я.
– Спасал, – без энтузиазма отвечал он.
– И вас наградили чем-то?
– Хвалили.
– В тюрьме вы, говорят, тоже сидели?
– Да.
– За дело?
– Ну а как же.
Мы разговаривали вдвоем – с глазу на глаз. Но сначала тетя Паша и тетя Валя и отчасти моя Аня поддерживали общий разговор, знакомили нас, сближали – и наконец ушли. Сейчас Аня катала Машку на мартовском воздухе. И беспокоилась обо мне: то есть думала, не стану ли я, оставшись с ним наедине, отшучиваться. Не стану ли дурачиться, скрывая за шуточками малость своего художнического дара и неумение объять и осилить образ дяди Вениамина.
Разговор, разумеется, не получился. Как не получаются задуманные и запланированные браки, когда и она хороша, и он ничего, и вот их свели, а говорить им не о чем.
К чести дяди Вениамина, он сам это понял. Прийти он пришел, и сидел напротив, и даже рюмку выпил, но никчемность общей затеи понял сразу. Сбросил несколько крупных капель пота со лба и сказал мне:
– Не могу я вот так разговаривать.
– Почему?
– Так…
– Может, еще выпьем?
– Толку не будет. Ну что я могу тебе рассказать, чем удивлю?
– Не знаю. Может быть, и удивите.
Он помолчал. Потом шепнул, как шепчут товарищу по неудаче:
– Дуры они… женщины то есть.
И стал собираться. Поднялся из-за стола – и к вешалке.
– Давайте все же посидим немного, – сказал я.
– Зачем?
– Ну так – для отвода глаз.
Я пошел его проводить. И гостеприимства ради, и чтобы было ясно, что мы вместе и что я вовсе не выставил дядю Вениамина.
Нас увидела Аня. И обе тетки – тетя Паша и тетя Валя. Мы шли (учитывая непротаявшие асфальтовые тропки) далеко от них и в несколько другом направлении. Я помахал рукой: дескать, все в порядке, гуляем, ведем содержательную беседу. И Аня вдруг с неудержимой радостью замахала в ответ. А лицо ее засветилось счастьем, другого слова тут искать не нужно. Теперь дело прошлое. Но никто и никогда не радовался за меня так, как Аня в те дни. Это точно. Никогда. И никто. И не потому, что она была лучше других женщин; она не была лучше других. Правой рукой она продолжала катить коляску с Машенькой. А левая взметнулась кверху, и белая ладонь вертелась, как вертится резной лист клена, когда он пляшет на ветру, показывая тебе то лицо, то изнанку. Ладонь была очень яркая и белая на мартовском солнце. Голая ладонь. Потому что Аня экономила и перчаток себе купить не смела.
* * *
– Нельзя же писать только для умных. Мы же тоже люди… Напиши, Игорь, хоть что-нибудь для нас…
Уже само этакое милое ее прибеднение говорило о повзрослении. О том же говорило бог знает где вычитанное или услышанное разделение литературы на «умную» и «неумную». О том же – не слишком спрятанная лесть: я как-никак был отнесен к сложным художникам… Я слушал и улыбался. Спорить не стал. Я даже подумал, что можно и впрямь иногда развлечься. Чем удирать в деревню и пролеживать бока на лежанке, угнетая своим видом мать, лучше уж настрочить за месячишко какую-нибудь болтливую вещицу.
Аня обрадовалась:
– Правда? Напишешь?
* * *
Аня чуть не хлопала в ладоши.
– Я всем нашим дам читать! Я буду хвастаться!
Я улыбался, но вовсе не потому, что она покажет мою «веселую» повесть тете Паше или дяде Вениамину. Я лукавил, понимая, что едва ли когда-нибудь сяду за такую повесть, – сказал жене приятное, вот и все. Тактика. Я улыбался отзвуку старой-престарой своей мысли – в юности я шарахался в сторону при одном только запахе районного загса и считал, что художник в наш век не может быть одновременно и художником и семьянином: женщина, мол, для того и придумана, чтобы убить в мужчине его индивидуальность. Она для того и создана, чтобы свести художника на нет. Он попадает в женщину, как попадают в зев мясорубки, и уже после двух-трех десятков хороших оборотов рукояткой оттуда выходят итоговые продукты, как то: зарплата, квартира, дети, веселые повести для чтения в электричке – творца же как такового уже нет… Такая вот была теория. Такая вот имелась мысль. И теперь я улыбался тому, что и моя Аня тем или иным путем пришла к этой самой мысли. Долго зрела. Давно пора, моя радость. Давно пора, – улыбался я про себя. Что там ни говори, а приятно понимать жену. Приятно угадывать женщину. Не новая игра. Старая песня.
Ознакомительная версия. Доступно 13 страниц из 65