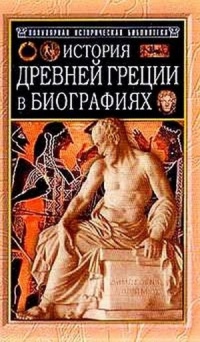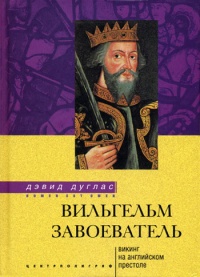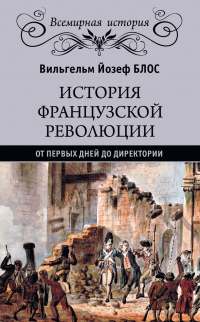пока не заалеет восток. Не раз, увенчав уже свою голову цветами для какого-нибудь весёлого праздника, снимал он венок и посвящал всю ночь другу, не желая поручать уход за ним одним рабам. Ему, да искусству и заботам великого врача Эризистратоса обязан я тем, что теперь стою пред тобой и могу рассказать тебе всё то, что сделал для меня Гермон. Одно считаю я с его стороны несправедливым, это то, что он не захотел в трудные для него дни братски делиться со мной, и этого я ему до сего дня не прощаю. Но отказом его руководило упорное желание доказать мне, твоему отцу, тебе и всему миру, что он твёрдо стоит на своих ногах и не нуждается в помощи ни людей, ни богов. Так же упорно отказывался он во время работы от моих советов и помощи, хотя мне муза даровала многое, чего у него, к несчастью, не хватает. Как бы твёрдо я ни был уверен в том, что ему когда-нибудь удастся создать великое, даже мощное, но ему, неверующему ученику Стратона[146], не хватает понимания благородства и необычайного величия божественного существа; он не может передать женской чарующей прелести и грации. Ему удалось это выразить только в одном произведении — в твоём бюсте.
Щёки Дафны покрылись ярким румянцем; чувствуя это, она закрыла лицо опахалом и с принуждённым спокойствием произнесла:
— С самого раннего детства мы были хорошими товарищами, и притом как же мало во мне женской прелести.
— Я же скажу, что ты обладаешь необыкновенной, обаятельной прелестью, — ответил решительно Мертилос. — Я совсем не хочу тебе льстить, ты прекрасно знаешь, что я не причисляю тебя к красавицам Александрии. Вместо тонких правильных черт, какие нужны для художников, боги дали тебе лицо, пленяющее все сердца, даже и женские, потому что в нём отражаются, как в зеркале, истинная, готовая всем помочь женская доброта, честные убеждения, здоровый восприимчивый ум. Передать такое чарующее лицо очень трудно, и Гермону, повторяю, это удалось. Ты же одна из всех женщин внушаешь ему, лишившемуся рано матери, уважение, и к тебе питает он более серьёзное чувство, чем к кому бы то ни было. Впрочем, он тебе и обязан многим. Когда он так внезапно порвал крепкие узы, связывающие его с дядей, не ты ли их связала вновь! И мне кажется, они теперь прочнее, чем когда-либо, и я не знаю, что могло бы теперь заставить его отречься от тебя. Честь и слава твоему отцу, который вместо того, чтобы продолжать сердиться на этого упрямца, отнёсся ещё теплее к нему и задал нам две задачи, исполнение которых позволит каждому из нас выказать свои способности с лучшей стороны. И если я не ошибаюсь, то мы обязаны этим заказом дочери Архиаса.
— Понятно, что отец, — сказала Дафна, — обсуждал со мной своё намерение, но он сам напал на эту мысль, и она всецело принадлежит ему. Статуя Гермона «Уличный мальчишка утоляет свой голод винными ягодами», хотя и не вполне во вкусе отца, понравилась ему всё же больше первых произведений, и я согласна с Эвфранором, что фигура мальчика поразительно правдива. Отец это понял. Кроме того, он прежде всего купец, и деньги, которые он заработал, ценит он высоко; то, что Гермон отказался от его золота, поразило его, а стойкость, с которой Гермон, несмотря на кутежи, неудачу в работе и нужду, сохранил честность и благородство, унаследованные им от храброго отца, были также оценены стариком, и дело Гермона было выиграно.
— А что сталось бы с ним в прошлом году без твоей поддержки и участия, после оскорбительного отказа принять его статую «Счастливое возвращение», заказанную для гавани Эвноста[147]?
— Отказ был совсем несправедлив! — вскричала Дафна. — Мать, открывающая свои объятия возвращающемуся сыну, — правда, некрасива, и мне она также не нравилась, но юноша, с посохом в руке, полон силы, и движения его выразительны и правдивы.
— Это мнение, — сказал Мертилос, — как ты уже знаешь, разделяю и я. Трогательное выражение должно было заменить красоту матери, а для юноши, как и для уличного мальчика, взял он подходящую натуру прямо из жизни. Правда, для изображения Деметры у него есть самое лучшее, что только можно желать.
Тут он в замешательстве остановился. Дафна стала требовать, чтобы он ей сказал, на что он намекает, говоря, что раз начал, то должен и докончить.
Снисходительно улыбаясь, он продолжал:
— Вижу, что мне не остаётся ничего больше, как выболтать всё, чем мы тебя хотели поразить. Уже в Александрии, когда мы принялись за моделировку головы богини, перед моими и его очами стоял твой прелестный облик, одинаково дорогой и близкий нам обоим.
Обрадованная Дафна протянула художнику руку и воскликнула:
— Как мне приятно это слышать, какие вы добрые друзья! Но каким образом это могло быть, ведь я не позировала вам для вашей богини.
— Гермон тогда только что окончил твой бюст, а мне ты позволила вылепить твою голову для моей «Богини Мира», которая потонула вместе с кораблём на пути в Остию. Мы сделали три-четыре повторения, да притом образ твой запечатлелся в нашей душе. Когда настанет время показать тебе наши работы, ты сама поразишься, до чего различно могут два человека видеть и воспроизводить одно и то же.
Дафна с не свойственной ей живостью произнесла:
— Теперь, когда я так много знаю и принимаю такое близкое участие в ваших произведениях, я решительно настаиваю на том, чтобы видеть ваши работы. Передай это от меня Гермону и напомни ему, что я, уже ради наших гостей из Пелусия, ожидаю его к вечернему столу. Пригрози ему моим гневом, если он будет настаивать на своём намерении рано покинуть наш пир.
— Я не премину исполнить последнее твоё поручение, — отвечал Мертилос. — Что же касается твоего желания уже теперь увидеть наши статуи Деметры, то…
— Ну, мы об этом поговорим, когда останемся опять втроём.
Говоря это, она простилась с художником, но едва сделал он несколько шагов к выходу, как она его остановила вопросом: — Скажи мне, не обманывает ли сам себя Гермон, когда с такой уверенностью говорит, что статуя ткачихи Арахнеи ему вполне удастся?
— Едва ли он обманывается, в особенности если намеченная им модель согласится ему позировать для этой статуи.
— Красива ли она и нашёл ли он её здесь, в Теннисе? — спросила Дафна, стараясь при