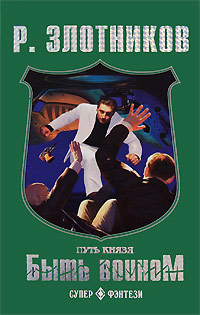шанс на жизнь. Подарок это или проклятие, Илья пока не решил, но он точно решил, что послушает Любомира и как можно скорее покинет полное мертвецов поле брани.
— Великий Князь Зимовит приказал, что бы в живых не оставили ни одного воина выступившего на стороне Изибора! — отдал приказ кто-то за высокими деревьями. Любомир встревоженно посмотрел на Гордея, они уже успели убраться с равнины и теперь поднимались по холмистым склонам.
Впереди вдруг послышались крики, мольбы о пощаде и треск веток, друзьям пришлось срочно спрятаться среди погибших в высоких зарослях. Лёжа в густой траве в обнимку с мертвецами, они старались затаить дыхание и молились всем богам, что бы рыскающие вокруг солдаты не нашли и не добили их.
Перебежками, помогая друг-другу Гордей и Любомир добрались до узкого, заболоченного рукава реки, здесь в самом глубоком месте вода доходила им до груди.
Любомир слабел с каждым шагом, его покрытое мелким бисером пота лицо было бледным, как снятые сливки:
— Любомир, держись, твоя рана просто царапина. — поддерживал друга Гордей-Илья.
— Думаешь я умру? — хрипло спросил Любомир. — Вот бы, на последок, увидеть Маженну перед смертью! Она сирота, у неё никого нет кроме меня. Обещай, Гордей, что если я умру, ты о ней позаботишся.
— Не говори так! — воскликнул Гордей. — Смотри там впереди, на горе, какое-то жилье. Надо пройти ещё совсем немного, там мы сможем обработать раны и отдохнуть. Обещаю, ты вернёшься в Белые Липы к своей Маженне.
Любомир покачал головой и опустился на влажную траву.
Пришлось Гордею остаток пути тащить Любомира на себе: выручило сильное молодое тело Гордея и сила духа выработанная военной дисциплиной у спецназовца Ильи за долгие годы на службе Родине.
С каждым шагом личность Илья всё больше растворялся в новом мире и новом теле, мозг Гордея и сознание Ильи объединились в едином волевом порыве выжить. Память, чувства, прошлая жизнь обоих как будь-то блекли, стирались с каждым новым шагом, а эти шаги требовали титанических усилий.
Наконец, под вечер, они добрались к хутору, вблизи он оказался совершенно не таким, как ожидал Гордей. Здесь давно хозяйничала разруха и запустение, из четырёх домов три были брошены, достаточно давно, что бы крыши провалились, а вместо дверей зияли дыры. Вокруг домов густо выросла крапива и лебеда, по стенам ползли плети дикого винограда и хмеля. Но в одном доме, центральном и самом большом, теплился очаг, струился над крышей дымок и в окнах мерцали золотистые отблески огня свечей. А ещё из окон жилого дома доносилось женское пение. Нежный тоненький голосок, пел что-то печальное про несчастную любовь.
Гордей встряхнул Любомира, тот едва смог открыть глаза, щёки Любомира теперь горели, а кожа стала горячей и сухой, юношу била крупная дрожь. Лихорадка! Любомиру срочно нужна помощь, догадался Гордей, иначе разговоры друга про смерть могут стать реальностью.
Гордей взобрался на широкое крыльцо жилого дома, без стука распахнул дверь. Ввалился за порог.
Внутри было просторно, на помосте из деревянных досок, на плетёных из тростника коврах, сидели две девушки: одна — совсем ребёнок, она крутила большое колесо прялки скручивая белую шерстяную нить и пела, другая — девица в самом соку, лет двадцати пяти, она склонилась над очагом и что-то готовила в подвешенном на потолочном крюке казане. Пахло мясом и у Гордея сразу свело желудок от голода. Утром, перед боем, они с Любомиром успели только скудно позавтракать ячменными лепёшками прежде чем их бросили рыть траншеи вокруг лагеря.
Сначала обитатели горной обители не заметили грязного и тощего юношу с бесчувственным другом на плече левой руки и сломанным копьём в правой. Но потом пение внезапно оборвалось, женщины подняли глаза, вскрикнули:
— Матушка! — молодая бросилась в объятия старшей.
Мелькнул цветастый подол синего, с вышитыми красной нитью маками, платья. Чёрные волосы перехваченные по лбу узорной лентой всколыхнулись и заструившись по обнаженным плечам младшей.
Обе женщины были напуганы до смерти, они прижались друг к другу и молча таращили глаза на Гордея. Страшен был его вид, грязные разводы на лице, кровавые пятна на порванной одежде, всклоченные, как пакля, волосы, в которых запутались репяхи. Гордей выглядел упырём восставшим из могилы. Особого сходства с кровососом добавляло, то, что пришел он не один, а с телом какого-то человека.
— Дай нам еды! — потребовал Гордей, выхватывая из ножен на поясе меч.
В горле его пересохло и клокотало, от-того звучал он, как если бы кричал ворон.
— Тихо тут! — предупредил он мать и дочь, отпустил тело Любомира, а сам направился к аппетитно булькавшему в котелке вареву.
Вот только что бы добраться до вожделенной еды, надо было взобраться на досщатый настил, возведённый над земляным полом дома. Аромат так манил, что сознание Гордея помутилось. Сделав несколько шагов вперёд он сам завалился на спину, упав рядом с Любомиром. От голода и усталости Гордей потерял сознание.
Глава 3
Гордей и Любомир поселились в одном из пустующих домов. Соломенная крыша была относительно цела, она почти не пропускала дождь, а и над входом игриво скрестили головы два резных конька.
Две женщины, живущих по соседству, оказались родственницами: старшую звали Ариной, а младшую, её дочь, — Софийкой. Обе женщины были южанками, обе невысокого роста с длинными и пушистыми волосами цвета воронового крыла, с круглыми, немного навыкате, глазами, маленькими ступнями и ладонями, но сочными женственными формами. Если бы Гордей не знал, что Арина мать Софийки, то мог бы поклясться богами, что они сёстры.
Софийка вышла из дома, в руках у неё был поднос накрытый рушником. Под расшитой крестом материей спрятались румяные пироги с визигой и глиняные плошки, в которых дымилась полбяная каша. Девушка направилась к дому с коньками на крыше, на поправленном недавно крыльце сидел, греясь в лучах позднего августовского солнца, Любомир.
Подходя к крыльцу Софийка обернулась, за околицей хутора раздавались крики и понукания — это неугомонный Гордей объезжал норовливого молодого конька.
Конёк прибился к хутору около недели назад, сначала он дичился людей, но голод и любопытство взяли верх над осторожностью. Когда, дня через четыре, Гордею удалось поймать сильную шею жеребца верёвочной петлёй, юноша увидел следы жестокой доли постигшей зверя — на золотисто-рыжем крупе конька белели шрамы от шипованной плети.
С того дня они, человек и конь, почти не расставались: с песней жаворонка Гордей поднимался с соломенного ложа и шёл проверить Огонька (такое имя он дал жеребцу не только за цвет шерсти, но и за непокорный характер). С утра и до обеда