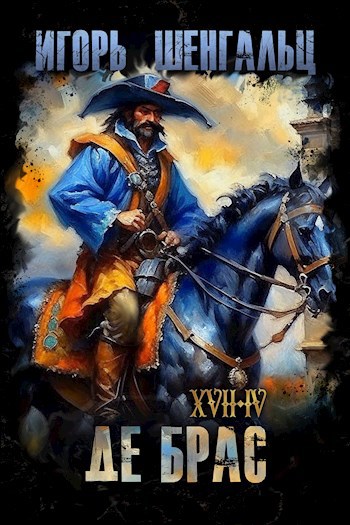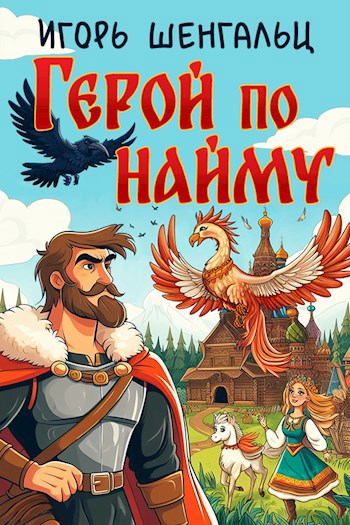на другую. «Они целуются!.. На его френче!» В результате этих размышлений я встал и направился к двери. Даже в несчастии надо быть мужественным, нужно заставить себя испить горькую чашу до дна.
За моей спиной закрывали собрание. На разные голоса пели «Интернационал».
Теперь в коридоре было совсем темно. Безо всяких стеснений я вынул коробок со спичками. Серная спичка распространяла удушливо-сладкий запах, долго тлела и, не пожелав вознаградить меня за все эти неприятности, вдруг потухла. То же случилось и со второй спичкой. Ну, что делать? Эх, наудачу! И я зажег сразу несколько спичек. Как медленно, как лениво разгоралось фиолетовое пламя. И все-таки свет бежит уже по стене, по окнам. Я делаю шаг вперед, вытягиваю руку насколько это возможно. И я достаю губпрофсоветчика. Я достаю его!
Не знаю, как назвать это чувство. Скорее всего я был разочарован, когда увидел на губпрофсоветчике френч — гладкий без одной морщиночки. Да, разочарован, а не обрадован. В противном случае разве могла б у меня возникнуть такая мысль: «Чистенький, гладенький, ответственный... — вот сволочь!»
Спичка догорела и обожгла мне пальцы. Губпрофсоветчик спросил:
— Кончили?
Я так жадно вдумывался в интонацию, с которой он произнес это слово, что не ответил.
— Мне с секретарем поговорить надо. Я пойду. Вы не очень соскучились со мной? .. Будьте здоровы.
Они распрощались, и губпрофсоветчик ушел. Леночка спрыгнула с подоконника и с шутливой неловкостью стала шарить руками в темноте.
— Где же ты? Где же ты?
— А тебе зачем? — осведомился я угрюмо. Она побежала на мой голос.
— Чудак, сердишься? Ведь там ничего интересного не было.
— На собраниях всегда интересно...
Этот пуританский ответ рассмешил Леночку:
— Ну, ну, злюка! Скорей домой!
«Неужели она не возьмет меня под руку» — думал я и демонстративно убрал свои руки, когда Леночка хотела это сделать. По улице шли молча. Только у самых дверей своей комнаты Леночка на минуту задержалась, чтобы сказать:
— Ты был прав: он очень симпатичный товарищ.
Уже второй раз за этот вечер со мной соглашались, признавали мою правоту. О, эти признания звучали, как насмешка, как издевательство, но у меня не было слов, чтобы на них ответить. Наученный опытом с Комаровым, я опустил голову и сказал только:
— Вот видишь...
Так закончился первый день в моей жизни, когда я дважды пожалел о сказанном. Это — начало: я становился взрослым человеком.
На следующее утро мне удалось убить двух галок. Рука после бессонной ночи дрожала — плохое качество для стрелка. Всякий охотник вам скажет то же самое.
Я был рассеян на лекциях, отвечал невпопад и всю большую перемену просидел в курилке, чтобы только не встречаться с Леночкой. Здесь, на этих шумных коридорах, мне не хотелось ее видеть. Другое дело в комнате, когда мы будем одни. Ничто, ни один след, ни одна мимолетная тень не укроется от моих глаз. Я буду, чорт возьми, знать правду ... Ах, друзья, никогда мужчина так не верит в свои силы, как в тот период, когда у него ломается голос. Я бы и теперь мирился с фальцетом, лишь бы сохранить былую самоуверенность...
Итак, в положенный час я постучался к Леночке, испытывая острое, почти свирепое желание узнать все, сразу и до конца.
Леночка стояла ко мне спиной у круглого столика.
— Давай их сюда! Я так проголодалась. Ты ведь тоже есть хочешь? Правда?
Не получив ответа, она медленно обернулась ко мне и повторила с добродушным нетерпением:
— Давай же птиц! Куда ты их спрятал?
Я был сражен. Нет, уничтожен. Чего ты хотел, чего домогался от этой девушки? Вот она стоит пред тобой, — в руках бутылка с маслом, на лице обычная улыбка и вся она такая обычная, давно знакомая в своем сереньком платьице. Где же твои галки, дурак? Ты их бросил под стол, закружившись в подозрениях, ты забыл о них, забыл, думая только о ней.
Леночка подошла, расстегнула на мне шинель и стала шутя шарить за поясом, по карманам.
— Как?! — воскликнула она, наконец, громко. — Как?!
Разбуженный от столбняка этим криком, я пулей бросился из комнаты и через минуту вручил бедных пичужек своей возлюбленной. Она смеялась:
— Ну, быть тебе профессором: профессора всегда что-нибудь забывают.
Все пошло своим чередом: Леночка ощипала галок, приготовила прекрасное жаркое, и мы поужинали. Потом уселись заниматься. Как всегда, я топал ногами и швырял об пол учебник Киселева. В заключение Леночка спела. Я недовольно морщился и просил:
— А ну, «Подай рученьку». Ужасно глупая песня...
За эти несколько часов о губпрофсоветчике не было сказано ни слова. О нем я вспомнил уже значительно позже, в постели. Вспомнил без злобы и тотчас же уснул.
Утром вывесили расписание зачетов. Зимний семестр вот-вот кончался, и каждому из нас предстояло ответить ученой комиссии по двенадцати предметам.
— Готовиться будем вместе?
— Можно и вместе, — ответил я, как всегда уклончиво.
Едва поужинав, отказавшись от обычных развлечений, мы стали просиживать целые вечера над книгами. Я занимался не хуже других товарищей по группе, но все-таки немножко трусил перед этими первыми зачетами. Жульничать, «сдавать на арапа» в те поры не умели. Даже простое подсказывание на лекциях квалифицировалось у нас как проступок глубоко антиобщественный, за который виновных частенько бивали.
— Не устраивай гимназию из рабфака! — учил своих жертв Андрей Малыгин — наш староста, судья и палач.
Леночка помогала мне готовить немецкий, но я зато старался быть добросовестным ее экзаменатором по геометрии. Строгий и педантичный, я усаживался и говорил Леночке:
— Расскажите нам, что вы знаете о вертикальных углах.
Она молчала некоторое время, а потом поспешно справлялась:
— О вертикальных углах?
— Да, о вертикальных.
Леночка смотрела в потолок.
— Постой, на какой же это странице?
— Вот тебе раз! — удивлялся я. — Так это ты и у комиссии будешь спрашивать? Говори прямо —знаешь теорему или нет!
— Скажи страницу.
— Брось!
— Подумаешь, задается. Комиссию из себя разыгрывает! Говори страницу.
— Не скажу.
— Ага, не скажешь? Так вот: ты провалишься по биологии. Ручаюсь. Сколько желудков у коровы? Товарищ, скажите, пожалуйста, сколько желудков у коровы?
Леночка ранила жестоко и без промаха. Я терпеть не мог биологии, и коровьи желудки меня смутили. Еще вчера кто-то из друзей поймал меня на ехидном вопросе: «Сколько ножек у сороконожки?» Теперь я уже не считал себя