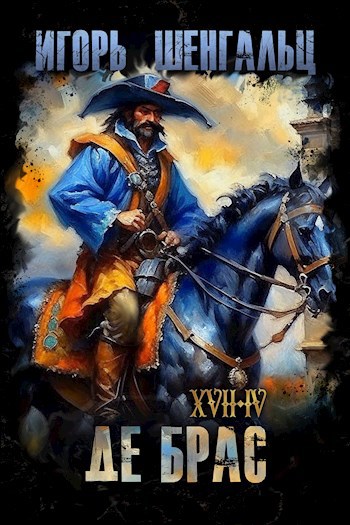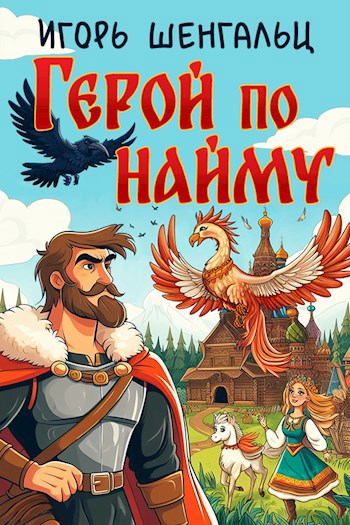Игорь Александрович Малеев
Измена
Рассказ
У вавилонских рек, тоской томим,
Рыдал еврей, скорбя о днях счастливых.
Так плакал и Жуан. Я б плакал с ним,
Да муза-то моя не из слезливых.
(Байрон. «Дон-Жуан»)
Леночка жила в полуподвальном этаже рядом со столовкой. Вернее, рядом с бывшей столовкой. Угрюмый зал теперь назывался клубом. Я отлично помню, как это случилось.
Накануне мы пообедали в последний раз, а утром завхоз вывесил об'явление, что с сегодняшнего дня выдача продуктов прекращается. Об’явление краткое: никаких посулов, никаких обещаний - оно было написано рукой голодного человека. Да и что можно обещать, если последние запасы кукурузы с'едены, если немка, об'ясняя правила склонения в женском роде, ежится от страшных криков, доносящихся с улицы:
— голодую-у, —
если на дворе январь месяц и если пшеница в этих благодатных краях созревает только к июлю.
Все те, кто остались, после занятий в физической аудитории, прочли об’явление. Поэтому, вероятно, Андрей Малыгин, поднявшись на кафедру, выбирал такую позу, чтобы можно было не смотреть людям в глаза. Он заговорил, наконец, обращаясь к воздушному насосу:
— Почему бы нам, ребята, вместо этой дурацкой столовки не открыть клуб? А то все еда, еда — умереть можно со скуки. После занятий рабфаковцу отдохнуть негде. А в клубе у нас будут кружки, читальня, оркестр... Слышите, ребята. — оркестр...
Маленькая Кулагина застучала откидной доской своей парты. Андрей побледнел, запнулся, да и я почувствовал себя скверно: «Неужели девчонка начнет бузить?» Долго она стучала и, только когда Андрей совсем растерялся, догадалась крикнуть:
— Клуб, обязательно клуб! И чтобы с оркестром!..
Как видите, все обошлось благополучно. Теперь уже кричали хором:
— К чорту столовку!
— Клуб!
— Даешь клуб!
А накричавшись вдоволь, приступили к обсуждению работы будущего клуба. Если кто-нибудь и вспоминал о столовке, то не иначе.. как с неприязнью, с негодованием. Кривые столы, эмалированные мисочки, кухонный запах, даже самый процесс пищеварения, — все, все было ошельмовано. Общее беспокойство возбудила речь Пети Савушкина:
— Подумали ли вы над тем, что президиум не захочет закрывать столовку? А ведь это совершенно ясно. Кто, например, обломает декана? Боюсь, что для переговоров трудно будет выбрать действительно авторитетную комиссию...
Проникнувшись Петькиным скептицизмом, мы долго спорили из-за кандидатур. Давались отводы. Специально назначенные счетчики руководили выборами, при чем большая полемика разгорелась вокруг вопроса: голосовать «посписочно» или «персонально». Наконец, комиссия была сформирована. Савушкин прочел наказ, принятый единогласно, и депутаты ушли. Мы остались ждать их возвращения.
Минут через пять при гробовой тишине Андрей об’явил:
— Товарищи, ваш наказ выполнен: вместо столовки будет открыт клуб!
У нас не нашлось лаврового венка для Андрея, но зато его подняли на руки и несли до самого общежития. Мне досталась левая нога триумфатора. Это было лестно, это кружило голову, взмывало чувства, но не настолько, однако, чтобы я перестал видеть в двух сантиметрах от своего лица грязный, дурно пахнущий сапог нашего героя. Я громче всех кричал «ура» и отворачивался насколько возможно. Именно благодаря такому повороту головы я обратил внимание на завхозовское об’явление, которое попрежнему висело в вестибюле. Сорвать об’явление — дело одной минуты. Я его спрятал в голенище малыгинского сапога...
Уже через неделю в новом клубе состоялось комсомольское собрание. С помещением распорядились отлично: стены, прежде хмурые, сырые по углам, теперь были сплошь увешаны географическими картами. Эти карты мы получили из бывшей женской гимназии, и они очень пришлись ко двору. Над столом президиума висели два полушария. Шестую часть суши вымазали суриком в красный цвет, на странах же, порабощенных капиталом, распластался змий, вырезанный из плакатов общества трезвости.
На этом собрании избиралось бюро. Кто-то выдвинул мою кандидатуру. Девушки встретили ее неодобрительно: зароптали, зашушукались между собой, и этот предвыборный шопот ничего доброго не предвещал. Тогда это меня совсем не огорчило. Напротив — я был рад: мне только-что исполнилось семнадцать лет, и я терпеть не мог девчонок. В сущности я вел себя отвратительно: фрондировал, заносился и с девушками говорил только в третьем лице:
— Она думает! Кто ее спрашивает!
А каким тоном я это произносил?.. Вы были трижды правы, девушки, когда голосовали против меня.
Итак, оппозиция женской части собрания казалась мне совершенно естественной и почти желанной. («Что можно ожидать от этих баб!?») Представьте же себе, что одна маленькая ручка поднялась за мою кандидатуру. Факт. За меня голосовала Леночка. Я был смущен, подавлен, я был напуган: Леночка, которая никогда не слыхала от меня других слов, кроме бранных, — она голосует!.. Не может быть! Здесь — ошибка.
— Это «за»! — крикнул я со своего места. Девчонки зашикали на нее, но Леночка только улыбалась; руку не опустила. Я убежал к себе и долго предавался раздумьям: почему она за меня голосовала? И это были скорее горестные раздумия, нежели сладостные.
Ну, а вечером следующего дня я постучался у ее дверей. Леночка как-будто меня ждала. Я постарался не заметить этого и спросил деловым басом:
— Хочешь, мы его с’едим?
— Хочу, — ответила Леночка, и я пошел на черный двор убивать только-что пойманного кролика. Со мной был штык германского образца — универсальное орудие, — им я рубил мебель на дрова, чинил карандаши, а вот теперь обезглавливал хорошеньких красноглазых грызунов... Вокруг помойки громоздились ледяные глыбы, уходя под самую крышу низенького сарая, и там сливались с фиолетовыми сосульками. В глубине за всем этим блестящим великолепием чернела помойка, как вход в какую-то сказочную пещеру, и оттуда поднимался пар — голубоватый, легкий, феерический. Я пробирался в ледяной грот, стараясь не поцарапать кованым сапогом гладкой поверхности, стараясь не задеть плечом ни одной сосульки, даже самой маленькой. Было холодно; стальной тесак липнул к пальцам, а кролик дрожал за бортом шинели. Я ощущал сквозь рубаху эту мелкую дрожь. И все-таки кролик умирал с достоинством: он не пошевелился на плахе, и если бы мог, то, наверное, скрестил бы лапки на груди. Когда все было кончено, я поднял свою жертву и стал ждать, пока кровь сбежит в помойку. Прошло, должно быть, много времени, а я все стоял, так мне не хотелось запачкать кровью чудесный грот. Сосульки освещались из окон; они были совсем розовые и, наверно, сладкие. Прозрачные глыбы льда двигались под мерцающим светом как