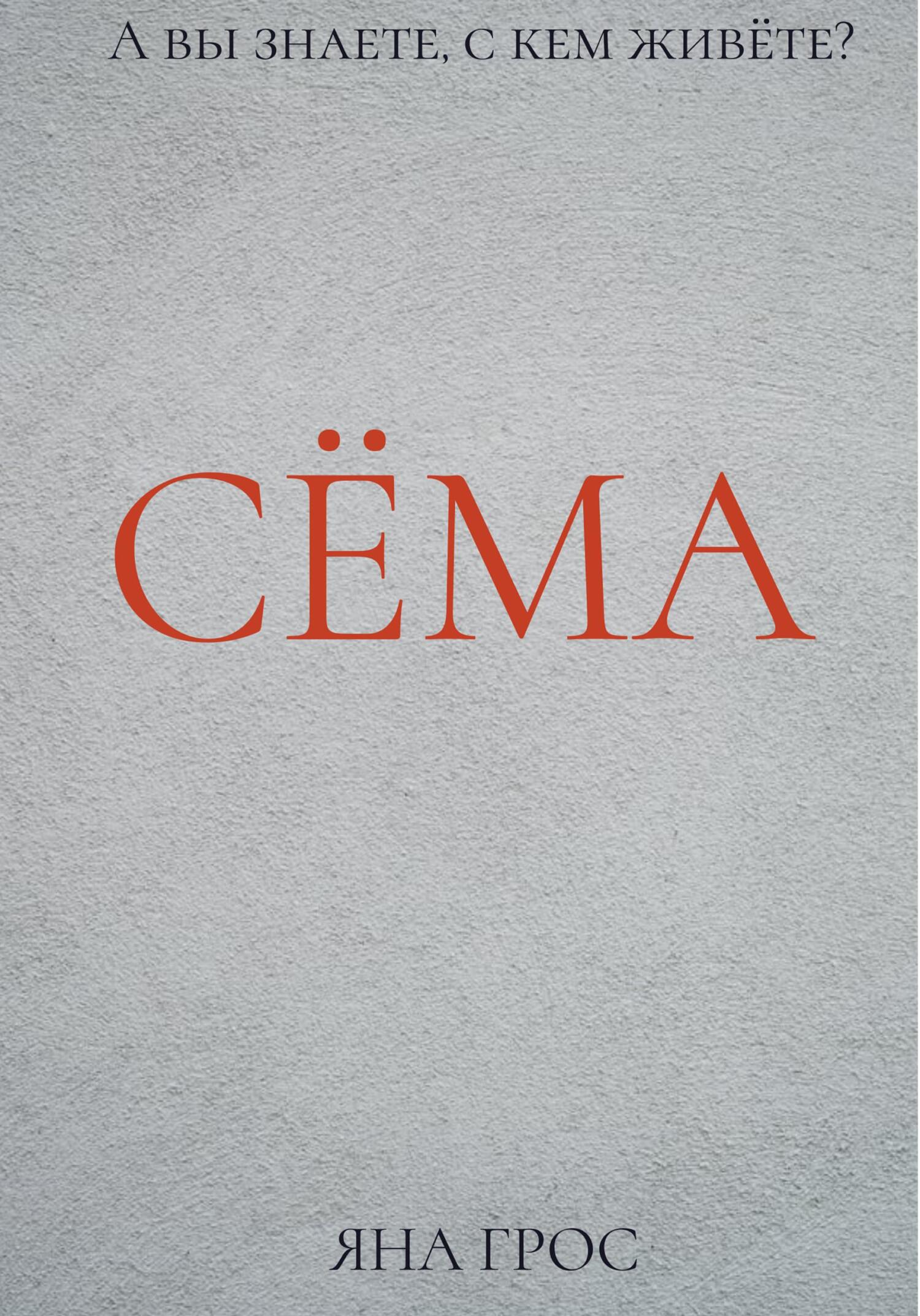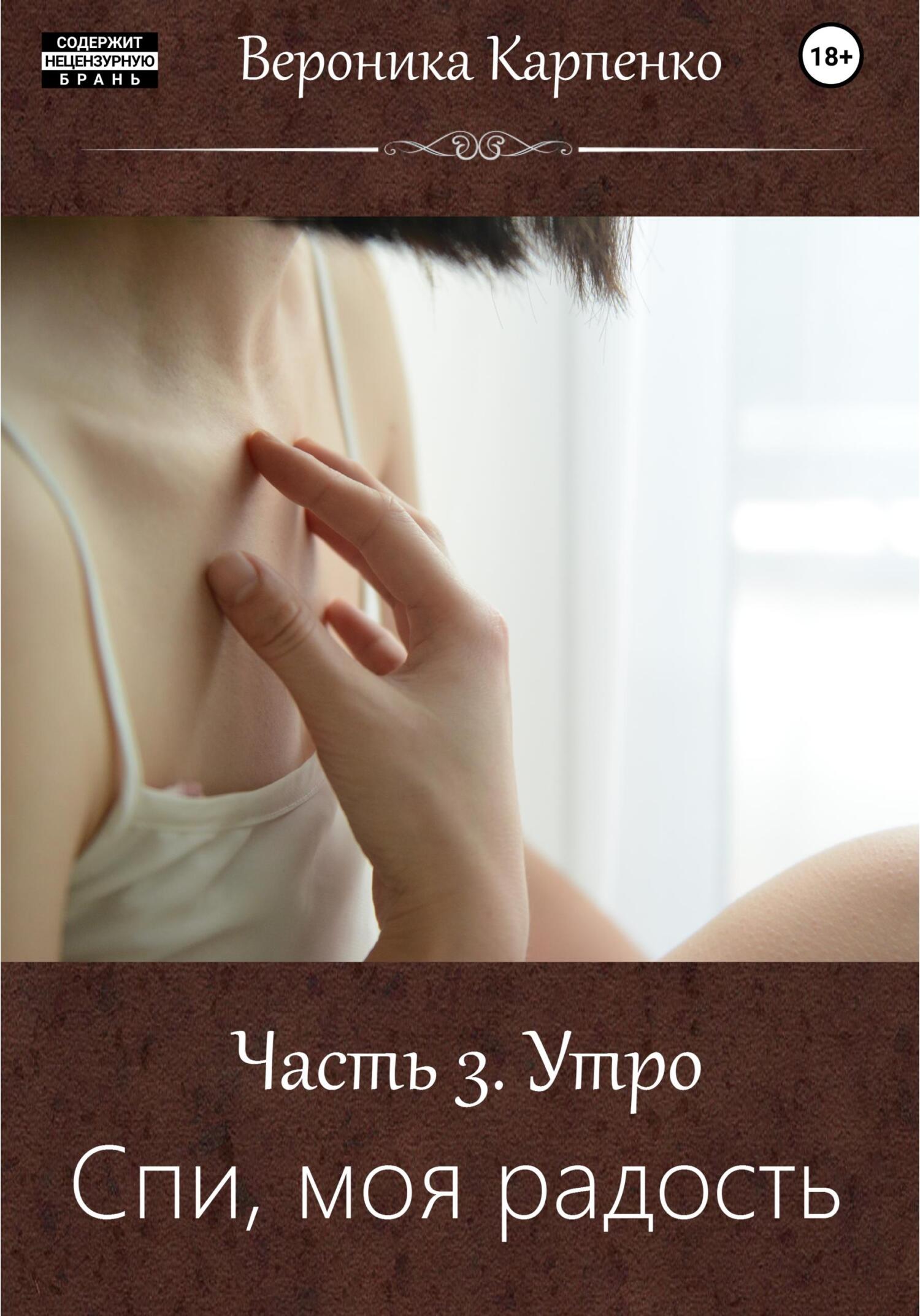заключил. — Вот так бы съездила. Доказывай, что не верблюд. Пока то да сё — и отпуск твой кончился. Или кого там у тебя — вакации…
— В милицию? — она расхохоталась. Георгий потянулся и огладил ей плечо. Широкая ладонь остановилась на лопатке. Она замерла. Слегка потрепал и уронил руку.
— Крыльца проверил. Крылья: ли спрятала? Эх… и я таким был.
В доме сгущался сумрак. От насыщения вкусными вещами ее тянуло в сон, мысли путались. С тревогой она взглянула на банку. Жидкость опустилась почти на треть. Но, кажется, на Георгия совсем не действовало. Белые волосы вокруг темного лица — даже красиво.
— Пойдем ко мне, свечей тебе дам… Яшшик взял, в Октябрьске…
— Вы здесь живете, — пролепетала она, — один… Мне говорили.
— Зимую, — поправил он. — Балок мой — видела? — на всходе, на угоре. Ну дом, дом. Такой как этот… помене. Твой — не протопишь. А люди, есть люди… Ездят. Прошлый год, на Семёна, охотники были. Осенью снова жду, обещались… Чё смеесси?
— Я не смеюсь. — Она улыбалась. — Я думала: не доживу здесь до конца… А сейчас — радуюсь. Глупости говорю, знаю. Просто… вы так рассказываете, интересно. То прям как они — а потом кажется, что городской.
— Я и тут, я и там.
Георгий налил (пятый?). — И по-фински могу, — прохрипел, выглотав залпом. Отхаркался: — Пóйми кук-ка! Каунис кукка. Знаешь, что такое? Красивый цветок.
Он встал. Теперь его заметно качнуло. Прошелся кругом, выглянул в окно. Посмотрел; повернулся спиной:
— Ну, пошли?
— Куда?
— Ко мне, — терпеливо.
— Я к вам завтра приду. Сейчас я уже спать буду.
— Ну, завтра, — согласился. — Силой не потащу. Я только вот это… — Георгий вернулся к столу.
(Выпил.) Уходить он вроде бы не собирался. — Или любишь… Сумерничать. Спрашивай — расскажу.
— Вы говорили — охотники! — вспомнила она. — Я бы хотела на охоту.
— Тебя не возьмут. Хотя с ними была. Женшшина… — произнес он задумчиво. — В лес не ходила, не. Готовила им тут.
Ей предстало, прямо картинкой: как бы она — эта женщина среди охотников. Готовила бы им, картошку… Это хорошо, конечно. Но на самое важное не попасть. Не выкрутиться из предположенного ей. Плохо быть женщиной. — Вслух сказала, что ли?
— Темный народ, лопари… — она уже не обращала внимания, Георгий вливал в себя обыденно, кажется задавшись целью прикончить эту банку. — Лопате молятся, бороной расчесываются…
— Тут есть церковь, — вспомнила. — Я не была. Завтра, может…
— Там нет ничего, — отмахнулся он. — Ну, Лена, ладно. Спи. Это заберу… — Георгий придавил банку крышкой, попав не с первого раза.
Она попыталась заставить его прихватить остатки еды, но он только сказал: «позавтракаешь»… Крупно шагая, шатаясь, устремился мимо выхода, пришлось поддержать его за локоть. Выпроводила наконец, зачинила дверь.
Посмотрела в окно. Георгий бормотал что-то сам себе, большая фигура истаяла в темноте.
Она подошла к печке. Там лежало древко от лопаты, без лопаты. Она ее использовала вместо кочерги. Она ее взяла и вернулась к двери. Всунула в дверную ручку (дверь наружу открывалась).
Потом она легла, укрылась одеялом. Про комаров даже забыла. Не было комаров. Куда-то делись вообще все. Подтянула одеяло между ног.
Стала двигаться — но остановилась. Не надо. Не потому что — а просто не надо. Вспомнила лицо старушки с кладбища.
И тут ее перевернуло жалостью.
В мыслях у себя она корчилась, кусая кожу на руке. Но на самом деле тихо лежала. Георгий был прекрасен. Как музыка, такая большая, что ей не вместить. Деловито сосчитала: как она, он был совсем в другое время. Время скорее ее родителей. Но родители всегда во времени рядом, видишь, но не веришь. И вот вам доказательство. Как экскаватор с грудой породы в ковше.
То, что читаешь в учебниках, в литературе. А он оттуда, где она еще не родилась. Не воображаемый герой, про себя в том лесочке невозможно и вспоминать. Дура, дура. Эта груда высыпалась рядом, ее не задев. «Я битый, меченый…» — наяву произнес голос Георгия. Или не говорил? Такое бубнил, уходя. А эти… люди… они — могут? Как-то сосуществуют; с краю все равно высовывается. Может быть, его били. А иначе почему он не живет там, в Октябрьском. Может быть, ему нравится. Когда нравится, так не пьют. Так бухают, когда хотят не чувствовать пытки одиночества. Пьяный в зюзю — а сдержанный.
Все это время она не шевелилась. Но теперь больше не могла удержаться. Между ног приятно свербело. Придавила рукой одеяло, стала двигаться.
Дернули сильно дверь!
Она вскочила, босиком подбежала к двери. Ухватилась за древко.
Древко прыгало вместе с дверью. Она держала его с обоих концов.
— Открывай! Лена…
— Уходите, — громко сказала она. Сердце билось как сумасшедшее. — Идите спать, Георгий! Уходите! Я сплю.
— А-а-а… девка… — Дверь остановилась. Потом опять задергалась.
Георгий с той стороны опустил руки. — А-а-а-а… девка, ты там не одна! Знаю, кто у тебя. Спрятался… от своих… Пришел по темноте.
Георгий давно ушел, она опять выглядывала у окна, удаляющуюся фигуру, не отпуская дверь. Держала свой хлипкий засов. Пока не успокоилось бухающее внутри. И тогда еще не отходила. Наконец заставила себя оторвать руки от древка.
* * *
Проснулась она до света. Быстро встала. На столе валялись остатки от вчерашнего. Она отломила кусок белого хлеба, отрезала колбасы. Сунула в пакет. Остальное сложила в кастрюлю и прикрыла крышкой; смела крошки в горсть.
Пол подметала она уже вчера.