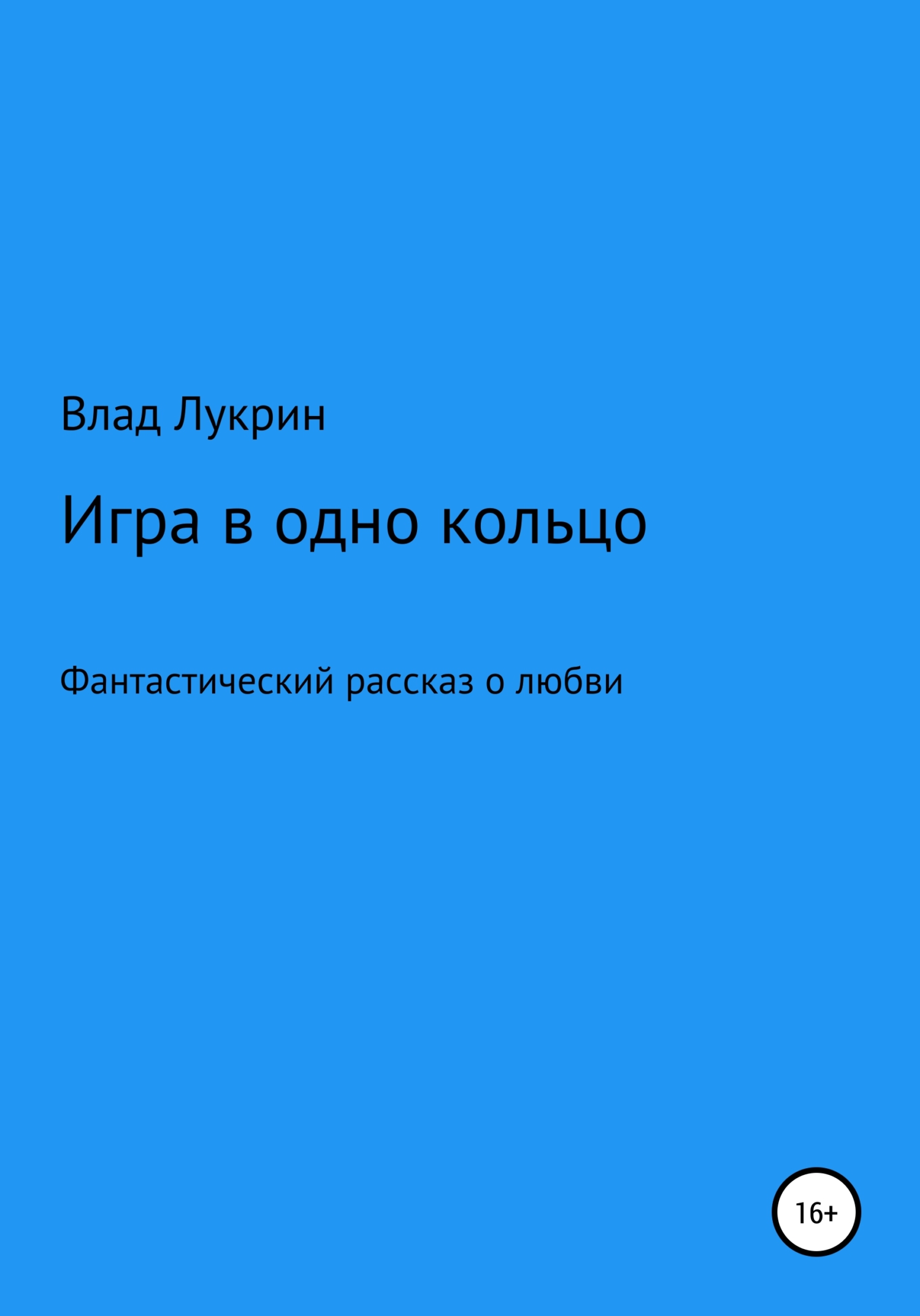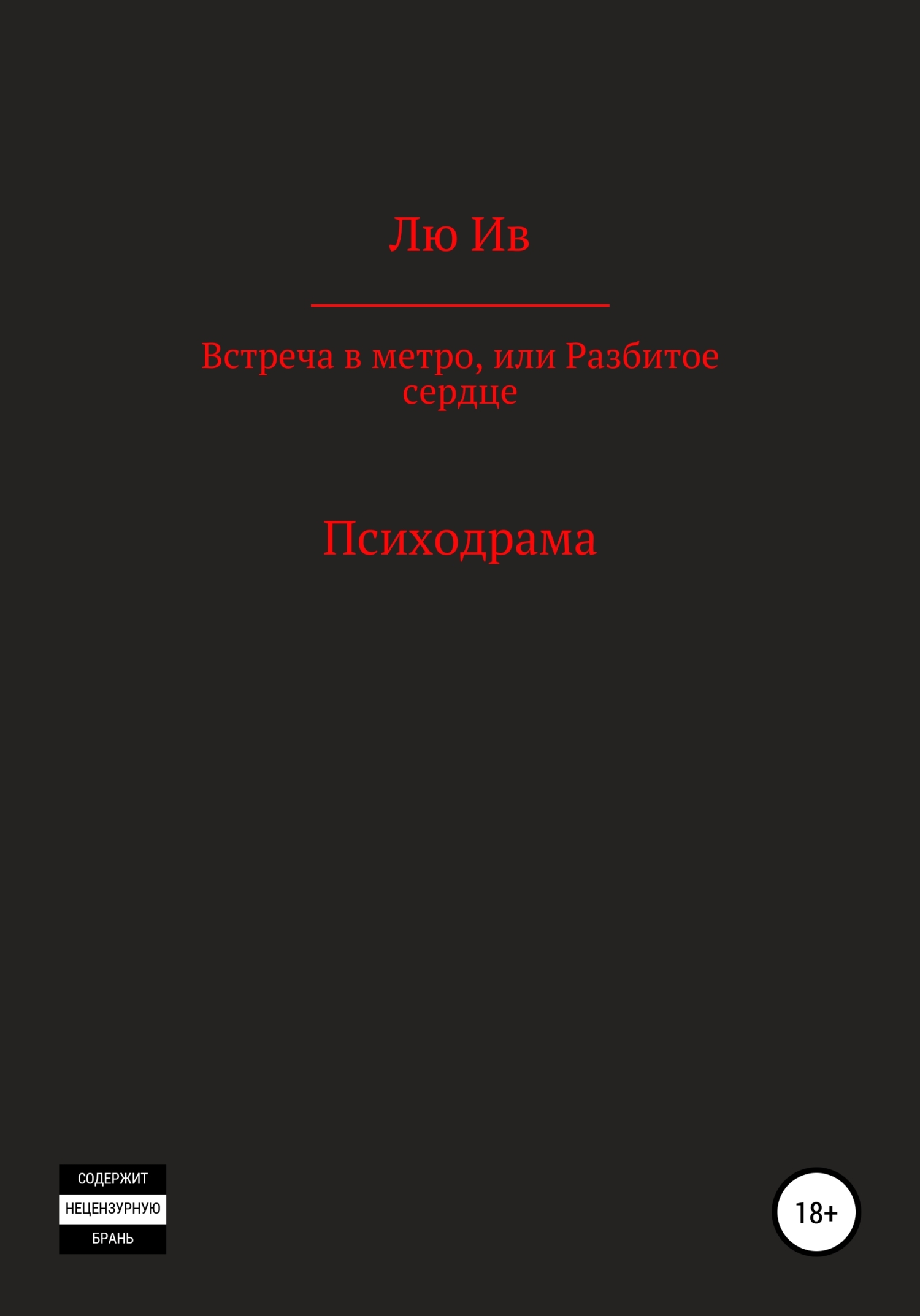Ты садишься на велосипед и едешь, куда глаза глядят, и размытую дорогу освещают молнии. Это бог фотографирует тебя со вспышкой. Ему интересно, как ты со всем этим справишься. Колеса велосипеда тонут в грязи, но ты продолжаешь крутить педали. Ты продолжаешь крутить, и слезы замешиваются с дождем. Это ты во всем виновата. Не нужно было быть такой любопытной. Ты едешь избитой дорогой, и останавливаешься у паромной станции. Бросив велосипед, ты бежишь к пирсу. Вокруг ни души. Только ты, только чайки, только проклятый паром. Ты кричишь. Ты рыдаешь. Ты бьешь по борту парома ногами, и чайки молчаливо наблюдают за твоим горем. Силы оставляют тебя, и ты садишься на пирсе. Ты достаешь из кармана насквозь промокшего комбинезона холодный алюминиевый сверток и промокшие спички. Ты больше не морщишься от запаха сигарет. Ты не морщишься от их вкуса. И сигарета на вкус теперь как глубокий вдох. Ты затягиваешься как можно глубже, и пирс качается на волнах, а остров прямо под тобой тонет. Но где-то там далеко на горизонте виднеется облако цвета нежно розового фламинго. Боже, как же оно далеко.
Свидетельство жизни Егора Волевича
Мы собрались сегодня по вполне определенному поводу – разобраться в одном довольно запутанном деле, в которое не по своей воле ввязался мой большой товарищ – Егор Волевич. Если с кем-нибудь происходит что-нибудь неординарное, прежде не зафиксированное ни в одном официальном документе, юристы обычно называют такое прецедент. Нашим юристом в тот вечер был мой школьный приятель, которого все называли Клерком. Он, конечно, не всю жизнь был настоящим клерком, зато с самого детства оставался большим поклонником британской культуры мо́дов и поэтому представить не мог своего отражения без рубашки и галстука. А поскольку в качестве платы Клерк согласился принять от меня только пиво – мы собрались в рюмочной. Причем не в самой, что называется «ламповой», как мы это обычно делаем, а как раз, наоборот – в одном злачном месте под названием «Башня с часами». Впрочем, это не слишком точно, поскольку из-за неудачного соседства с аппаратом правительства рюмочную то и дело закрывали, затем открывали снова уже под новым названием, поэтому мне, конечно, не вспомнить, как она тогда называлась. И тем более не сказать, как она зовется теперь. Но точно я помню одно. В тот день было холодно до усрачки, а в «Башне с часами» – контрастно: топили так сильно, что наши потные задницы в подштанниках оставляли на барных стульях влажные очертания.
Нам повезло. Пиво налили за полцены. Все потому, что Егор познакомился с официанткой, которая с новогодней ночи работала без выходных, а в новогоднюю ночь удачно потанцевала. К тому моменту с Нового года прошло уже две недели, а у нее никак не шли месячные, и поблизости не было ни одной аптеки (как, кстати, и ни одной башни с часами), так что девочке оставалось стучать по дереву и надеяться, что пронесло. Ну а Егор, как прирожденный джентльмен, пообещал ей, немного погодя, метнуться за тестом на материнство и, как прирожденный болтун, обещания не сдержал. Но не суть. Девочка (она, между прочим, выпила вместе с нами) так напилась, что напрочь забыла о том, что именно обещал Егор, но не забыла его донкихотских намерений и даже начала всерьез фантазировать о том, что, если родится мальчик – она назовет его Егором Волевичем. Мы посмеялись и подняли бокалы за моего хорошего друга, который стал главным действующим лицом того самого прецедента.
А суть прецедента Егора Волевича была в следующем. На вопрос «как можно так сильно ненавидеть собственную мать, ведь она дала тебе жизнь и бла-бла…» Егор отвечал всегда одинаково: «У меня на теле есть один шрам, напоминающий о том времени, когда мы с матерью были близки в самый последний раз». Затем он поднимал футболку, указывал на пупок и говорил: «Вот он». Мама Егора выросла в портовом городке и, еще будучи ученицей старших классов, проявляла большой интерес к фланирующим по свободному порту заезжим очаровательным пьяницам-морякам, которые, в свою очередь, были падки на красавиц любого возраста. Так и получился Егор Волевич – мой хороший друг. И то ли ей было нестерпимо трудно растить Егора одной, то ли она действительно была такой уж хреновой матерью, но к шестнадцати годам Егор Волевич принял решение самоэмансипироваться и сбежал из дома, не оставив даже записки. А мама Егора, в свою очередь, приняла решение объявить сына без вести пропавшим, что, по ее мнению, должно было помочь в трудных поисках, которые тем самым приобрели бы официальный статус. Но что-то пошло не так и спустя пять лет матери Егора вручили свидетельство о его смерти.
– Гражданин может быть объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, – процитировал Клерк.
И хотя Егор, конечно, был живее всех живых, незнание закона, как нам объяснил Клерк, не освобождает от ответственности. И в данном случае мерой ответственности для моего хорошего друга был отказ официальных властей в признании его собственного существования. Однажды вернувшись в родной городок, Егор, уходивший налегке, решил возвратить себе утраченную коллекцию пластинок и с этим отправился к матери, которую, конечно, хватил удар, ведь она даже организовала кукольные похороны с пустым гробом и всякими разными почестями, как полагается. Оправившись от удара, минут через пять она вручила ему ламинированный листок бумаги, свидетельствующий о том, что Егор Волевич, который и на тот момент был живее всех живых, разве что с небольшого похмелья, был признан умершим три года назад. Так и получилось, что передо мной находилось свидетельство о рождении человека, свидетельство о его смерти и сам человек. В этом был прецедент.
Получив известие о своей смерти, Егор Волевич несколько месяцев пребывал в благоговейном запое, который не прекратился и к моменту нашей встречи с Клерком. Официантка Маша, с которой мы так подружились, продолжала подливать пиво, играла группа, названия которой никто не знал. Все знали только одно. Что за порог «Башни с часами» никто не выйдет до тех пор, пока не кончится вьюга.
– Юридически тебя нет, – говорил Клерк, и мы кивали, а ударная установка расставляла акценты, предвосхищая падения и взлеты в его интонации. – Это значит, что ты не являешься субъектом какой бы то ни было правовой системы. Тебя нельзя наказать, нельзя привлечь к любому виду ответственности, – Клерк говорил, и перманентно мученическое выражение лица Егора Волевича сменялось