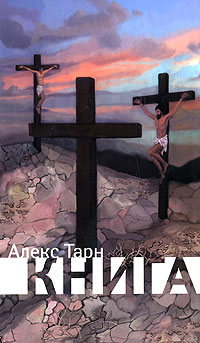Михаэль Энде и Фолькер стали часто встречаться. Искру в конце концов высек их общий друг Ингвальд Клар. С помощью адвоката был разработан устав общества. Потом придумали специальные бланки. А вскоре возникло и само Общество почитателей Эдгара Энде. Капитал, необходимый для возрождения, затонувшего в волнах времени наследия живописца, отсутствовал. У самого Михаэля Энде обнаружили рак. В скором времени Фолькер оказался единственным боеспособным защитником интересов сюрреализма. На задворках той немецкой культуры, о которой знала общественность, приготовлялось какое-то новое варево.
Теперь, приходя к Фолькеру, я заставал его в окружении картин. Словно командующий фантастическим флотом, стоял он, в купальном халате, уперев руки в бока, среди живописных полотен, на которых вырастали из стены человеческие фигуры или женщина на каменном троне, укрепленном на панцире черепахи, медленно скатывалась вниз по светлому земному шару, предостерегающе подняв руку.[234]
— И что теперь? — спрашивал я его, всматриваясь в живописные миры.
— Теперь начнется работа.
— Она никогда и не прекращалась.
— Значит, начнется новая работа.
— Ты ведь понимаешь, что губишь себя.
К двум очкам теперь прибавилась лупа, которую мой друг зажимал между большим и указательным пальцем, чтобы получше рассмотреть контуры тел или переходы серо-голубоватых тонов там, где морской берег сливается с ночным небом.
— Эта работа — мой единственный шанс.
— А как обстоит дело с оплатой?
— Есть же компетентные коллекционеры.
— Большинство из них коллекционирует то, что известно.
— Что ж, пусть узнают нечто для них непривычное.
Я оставил всякую надежду на материальное благополучие Фолькера. В наше время бесполезно объяснять кому-либо, что человек может полагаться лишь на свою судьбу и при этом никогда не впадать в уныние, что человек этот разговаривает с директорами банков, интересующимися искусством, так, словно нет никакой разницы между ним, с опозданием вносящим плату за снятую квартиру, и владельцем роскошной виллы. Непостижимо, но Фолькер ощущал себя (в сравнении с Анри де Тулуз-Лотреком, постепенно спивавшимся, или с Винсентом Ван Гогом, которому приходилось выпрашивать тарелку теплого супа) человеком вполне благополучным, находящимся на подъеме, занимающим в мироздании определенное, устраивающее его место. «Если удастся продать карандашные наброски, я получу комиссионные».
Его увлечение живописью Эдгара Энде я поначалу не принимал всерьез. Отец Михаэля Энде считался представителем так называемого магического реализма. Лошади и статуарного вида крылатые персонажи в жутковатых ландшафтах… — на первый взгляд многие из этих живописных композиций казались чуть ли не китчем. Блеклые фигуры без лиц, с мишенями на спинах, бредут к какому-то монументу… Мне казалось, что такие видения не соответствуют духовным запросам Фолькера, его аналитическому уму: что они недостаточно абстрактны, недостаточно радикальны.
Я не придал должного значения словам Фолькера, сказанным в связи с «Живыми мишенями»:
— Процесс возникновения картин был уникальным. Энде на целые дни запирался в мастерской, куда не проникал ни единый луч света. Картины складывались перед его внутренним взором. Как только обдумывание композиции завершалось, художник прикреплял карандаш или кисть к карманному фонарику и начинал писать в маленьком круге света, одну деталь за другой.
Он показал мне еще одну, ночную картину:[235]
— Видишь: земля пуста. На небе лунный серп; трое мужчин летят со стрелой, едва к ней прикасаясь, в небесные эмпиреи. Тут есть и сюжет, и люди, и символы — но все это не поддается однозначному толкованию. Живопись Эдгара Энде то ли примитивнее, то ли, наоборот, глубже, чем у Дали, чьи текучие циферблаты расшифровать легче.
— Все ли надо истолковывать?
— Нет.
— Ты уже весь — огонь и пламя.
— Не злоупотребляй высоким слогом.
Мой друг решил начать с Восточной Германии. Цвиккау, Кемниц, Бад-Франкенхаузен в Тюрингском лесу — все эти города с их культурными учреждениями давно и почти полностью разорились. Храмы муз там прозябали, словно обреченные на смерть. Картины, висевшие в музейных залах с потертыми банкетками, где кондиционеры вообще отсутствовали, радовали посетителей и в 1910-м, и в 1960-м году. Один прибрежный ландшафт Макса Либермана[236]и несколько полотен, изображающих в разных вариантах прокатный цех социалистического завода, представляли все современное искусство. На новые выставки — с работами Георга Базелица или фотосериями Синди Шерман[237]— денег катастрофически не хватало. А после шестидесяти лет изоляции от западного искусства, которое они всегда ценили больше восточного, руководители музеев уже не могли отличить современные шедевры от хлама, сигналы новой эпохи — от мыльных пузырей. На экране монитора — пять стульев, поставленных в круг, потом те же стулья, но перевернутые… Высказать свое мнение трудно…
В этот вакуум, в атмосферу вечного «переходного состояния» как раз и вломился Фолькер. С «Живыми мишенями» Эдгара Энде и с его же картиной «Барка», на которой набившиеся в жалкое суденышко люди пытаются подчинить себе Луну. А до этого были оживленные телефонные переговоры между Мюнхеном и Восточной Германией.
— Музей в Цвиккау раздобыл десять тысяч марок.
— Прекрасно!
— А в Бад-Франкенхаузене пока только ищут деньги.
Я вызвался сопровождать Фолькера. В багажном отделении и на заднем сиденье «гольфа» лежали образцы «магического реализма». Мы решили сэкономить — обойтись без услуг транспортной фирмы. В мотеле «Софиенберг» недалеко от Байрейта ненадолго остановились, чтобы выпить кофе и перекусить франконскими колбасками. По радио (пока мы его не выключили) каждые пятнадцать минут передавали одно и то же сообщение: Македония теперь имеет собственный национальный флаг.[238]Я терзал своего друга, вставляя в кассетник записи второстепенной барочной музыки:
— Мы должны вновь открыть давно позабытое. То, что нравилось публике в 1750-м году, не может быть таким уж плохим. Мне надоело все великое, значимое, превозносимое до небес: многие произведения считаются великими лишь потому, что их вновь и вновь воспроизводят. Лучше помпезная месса Иоганна Адольфа Хассе,[239]чем неизменный Моцарт.