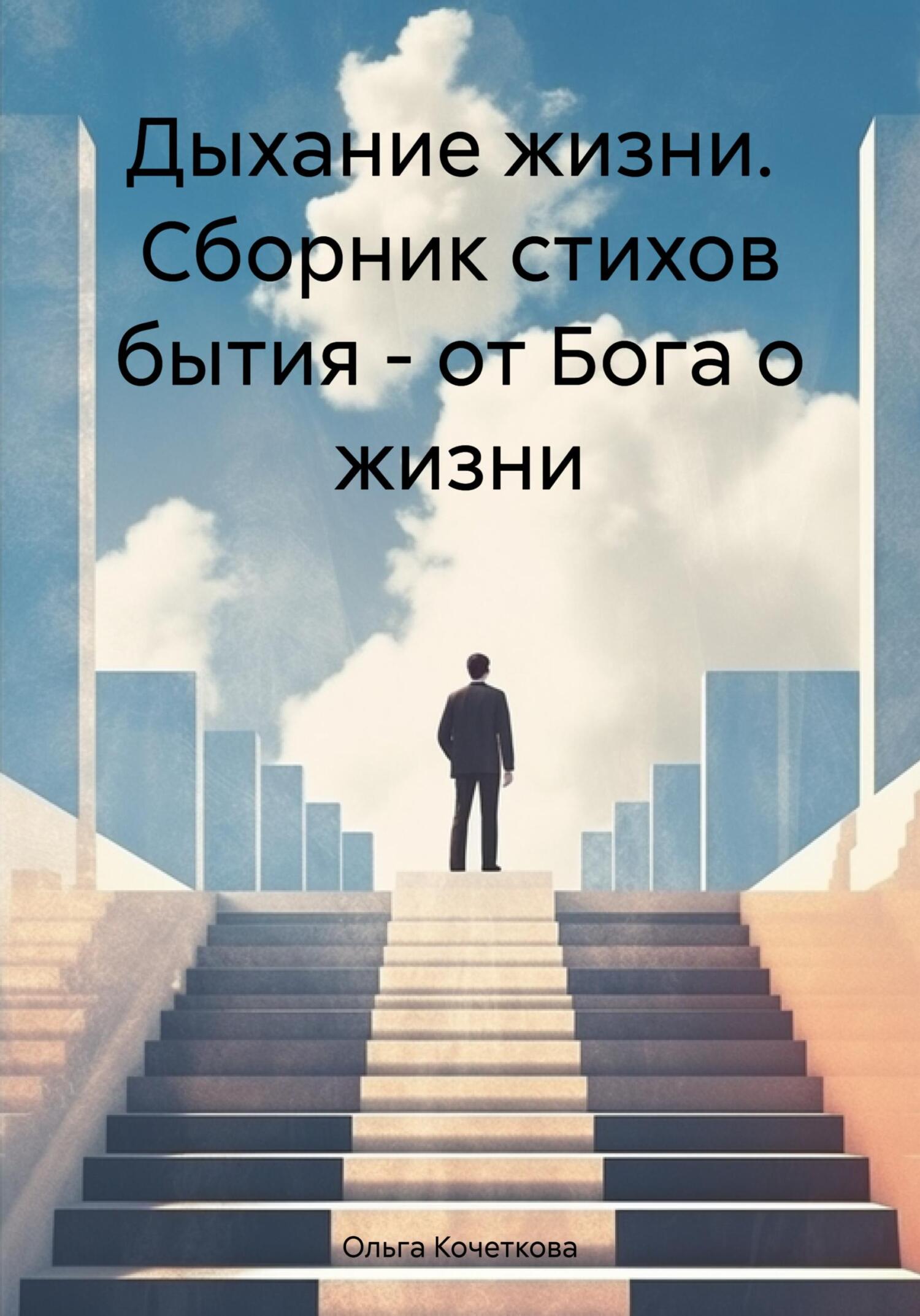удовольствию хозяина, видные пианисты и композиторы. Всех гадких утят он любил – и не за то, что провидел в них будущих лебедей: от лебедей его как раз тошнило. Так, прекрасно зная русскую поэзию, всем ее лебедям он предпочитал Игоря Северянина – за откровенный моветон.
Во всем совершенном и стремящемся к совершенству он подозревал бесчеловечность. Человеческое начало значило для него несовершенное, и к несовершенному он требовал относиться «с первой любовью и последней нежностью», чем оно несовершеннее – тем сильнее так к нему относиться. Самой большой нежности заслуживал, по его мнению (цитирую), «тот, кто при всех опысался».
Не могу сказать, что мне до конца был понятен этот крайний гуманизм. «Да, – говорил по этому поводу Веня, неожиданно переходя на высокий стиль, – снисхождение не постучится в твое сердце».
Еще непонятнее мне была другая сторона этого гуманизма: ненависть и к героям, и к подвигам. Чемпионом этой ненависти стала у него несчастная Зоя Космодемьянская: за свое поклонение этой Прекрасной даме он дорого заплатил (говорят, что он был отчислен из Владимирского пединститута за издевательский венок сонетов, посвященный Зое). Даже Буревестник с его «Человек – это звучит гордо» и подобными афоризмами не возбуждал в нем такого гнева: в Буревестнике Веня находил что-то комичное. Буревестник был низок и двоедушен, а это уже примиряло с ним. Но безупречная Зоя, мученица Зоя! При мысли о Зое Веничку покидало даже чувство юмора.
«А не думаешь ли ты, – спросила как-то я, – что герои коммунистической пропаганды – просто перелицованные образцы подвижников из святцев? Что ты скажешь о настоящих мучениках? Они тоже, по-твоему, извратили человеческое?»
Веня поморщился и ничего не ответил.
Он часто говорил не только о простительности, но о нормальности и даже похвальности малодушия, о том, что человек не должен быть испытан крайними испытаниями. Был ли это бунт против коммунистического стоицизма, против мужества и «безумства храбрых», за которое пришлось расплатиться не только храбрым и безумным, но миллионам благоразумных и не храбрых? (Ведь такому мужеству на чужой счет нас обучали со школьных лет: «ничего, потерпят!», ничего, что за прекрасную Зою расстреляют всех жителей Петрищева, а за усердного Стаханова с его коллег сдерут по семь шкур, – главное, чтобы на земле всегда было место подвигам!) Или мужество и жертвенность и в своем чистом виде были для Вени непереносимы? Я так и не знаю…
Среди заметок Паскаля (Вениного любимца) есть такая: «Стоит пожелать сделать из человека ангела, и получишь зверя». Можно добавить: «Стоит пожелать найти в человеке ангела, и наткнешься на зверя». «Ангеличность» – несчастный плод европейского идеализма прошлого века. Озверение XX века – и теоретическое (философия «жизни»), и практическое (ГУЛАГи, Треблинки, да и мирное массовое общество) – отомстило за эту «ангелизацию», за попытку представить человека тем, что вовсе не в его силах. И, не встретив в ком-нибудь искомого ангела, мы, любители «идеалов», уже видим на его месте нечто нестерпимо низкое; не встретив этого ангела в себе, решаем, что жить не стоит. Веня очень не любил мои бесповоротные разочарования в людях, авторах и сочинениях и называл их «комплексом Клеопатры».
В Венином преувеличении «слишком человеческого» как «человеческого по преимуществу» (а не звериного или подонческого) было что-то терапевтическое. Не могу сказать, что в моем случае этот курс лечения от «ангеличности» оказался успешным. Например, я думаю, Веня больше бы полюбил Мандельштама, узнав о его последних сталинских стихах. Для меня же открытие «Савеловских тетрадей» – глубокое огорчение. Лучше бы все кончалось, как мы знали до этого… Снисходительность так и не стучится мне в сердце – разве что в рассудок…
В этой точке – «полюбите нас черненькими» – Веня нашел родную душу: Василия Васильевича Розанова. С Розановым его сближало и остронациональное самосознание.
«Ведь это не обо мне, это о нас они судят», – говорил он, читая зарубежную статью о себе.
У него вообще была очень сильная русская идентификация. Для него оставались реальными такие категории, как «мы» и «они» («они» – это Европа). Он всерьез говорил: «Мы научили их писать романы (Достоевский), музыку (Мусоргский) и т. п.». Но тянуло его, кажется, как многих очень русских людей, – к «ним». Он не любил «древлего благочестия» и не потрудился даже узнать его поближе. Христианская цивилизация для него воплощалась в Данте, в Паскале, в Аквинате, в Честертоне, а не здесь. Сколько раз он говорил: «Никогда не пойму, что находят в „Троице“ Рублева!» (Впрочем, так же он говорил: «Никогда не пойму, почему носятся с Бахом!» – но, когда сыграла ему баховскую прелюдию, он слушал совсем не как тот, кому до Баха нет дела.) В его русскости не было ничего почвенного, домостроевского, того, что в ходу сейчас. Он не испытывал умиления перед «народом», и «русское» не значило для него «крестьянское». Мужика Марея Веничка не встречал; из того, что относят к «культурному наследию» —
Небылицы, былины
Православной старины, —
он предпочитал небылицы. Народ же исторический, конкретный был для него чем-то «совершенно другим», он уверял, что и общаться с ним не умеет, и из так называемых «простых людей» жаловал только крайние случаи – спившихся, дурачков и т. п. «Русское» значило для него, скорее всего, «достоевское»: в кругу героев Достоевского нетрудно представить и главного героя «Петушков». В самом Вене мерещилось иногда что-то версиловское, иногда – ставрогинское. Он очень сочувствовал Дмитрию Писареву – при том, что Чернышевского и Добролюбова ненавидел почти как Зою. Это парадоксальное разделение разночинской когорты – не пустой каприз.
И я думаю, что Венино Горе с большим основанием можно было бы назвать Русским Горем. Кошмар коммунистической эпохи был тем Горем, которое он переживал ежедневно. Он как будто не сводил глаз со всей лавины зверства, тупости, надругательства, совершенного над страной. От такого зрелища можно свихнуться серьезнее, чем Гамлет, и оставшееся время «симулировать вменяемость», как Веничка назвал собственное поведение. И страшнее всего, что это и не собиралось кончаться.
«Мы помрем, а они так и будут дышать на ладан», – говорил он, когда кто-нибудь уверял, что режим дышит на ладан. Все метаморфировало из одного безобразия в другое и обещало продолжаться вечно, до полной победы. Отщепенец тех лет (которые лукаво назвали «застоем») – а Веничка в высшей степени был отщепенцем, тем, кто в доме повешенного говорит о веревке и говорит о ней в доме вешателя, – был окружен страшным обществом. Оно было, быть может, пострашнее легендарного ГБ – как помнят все отцепенцы. В ненависти к «ненашему» и «непонятному», в готовности топить любого, кому «больше