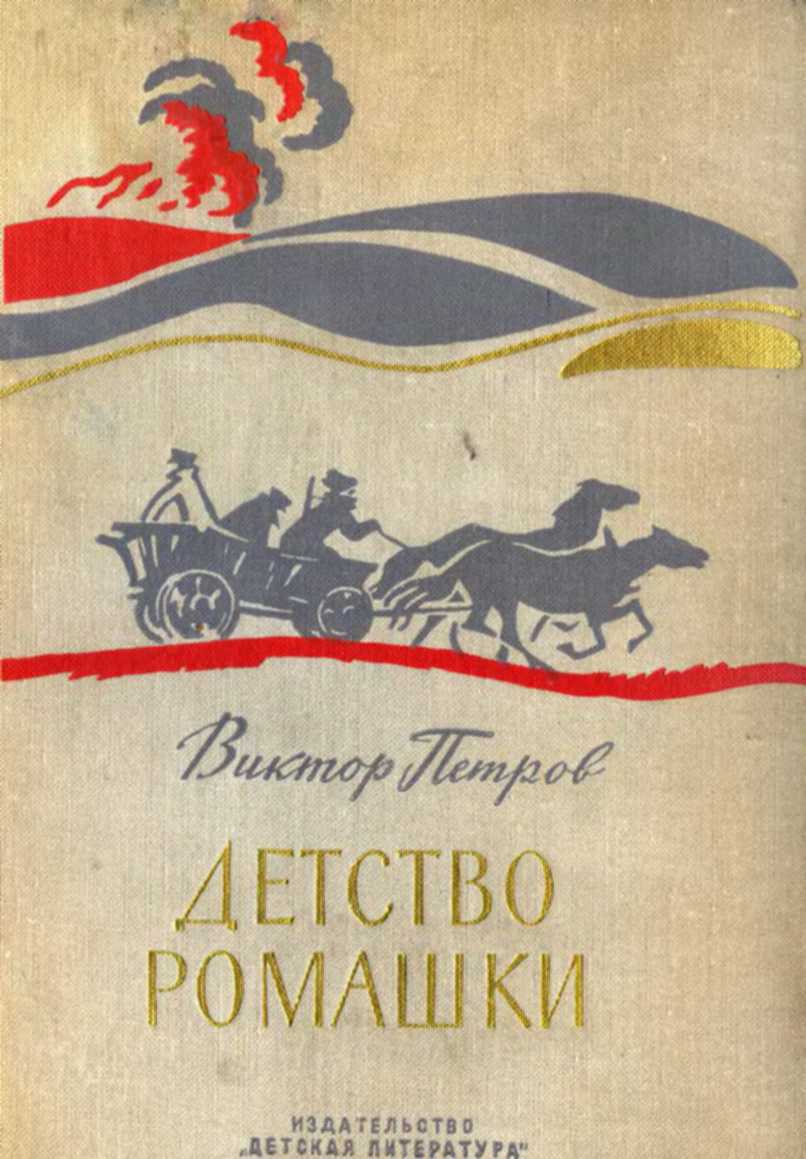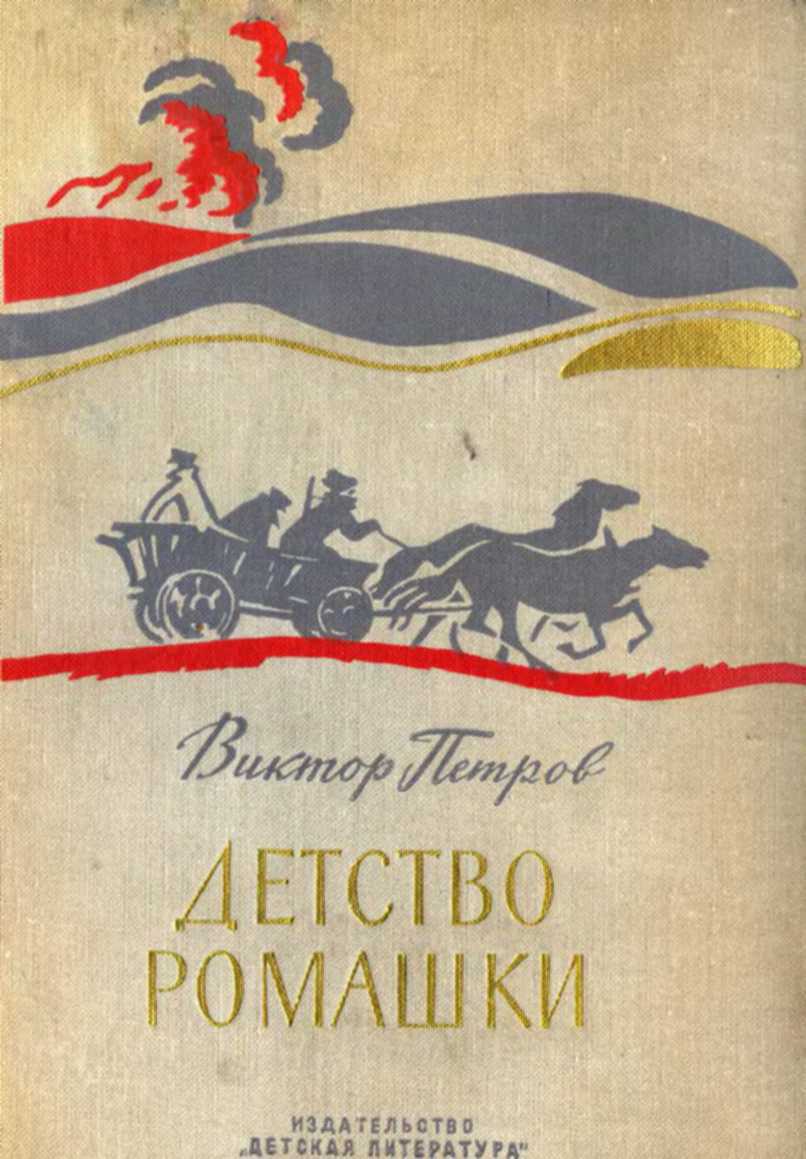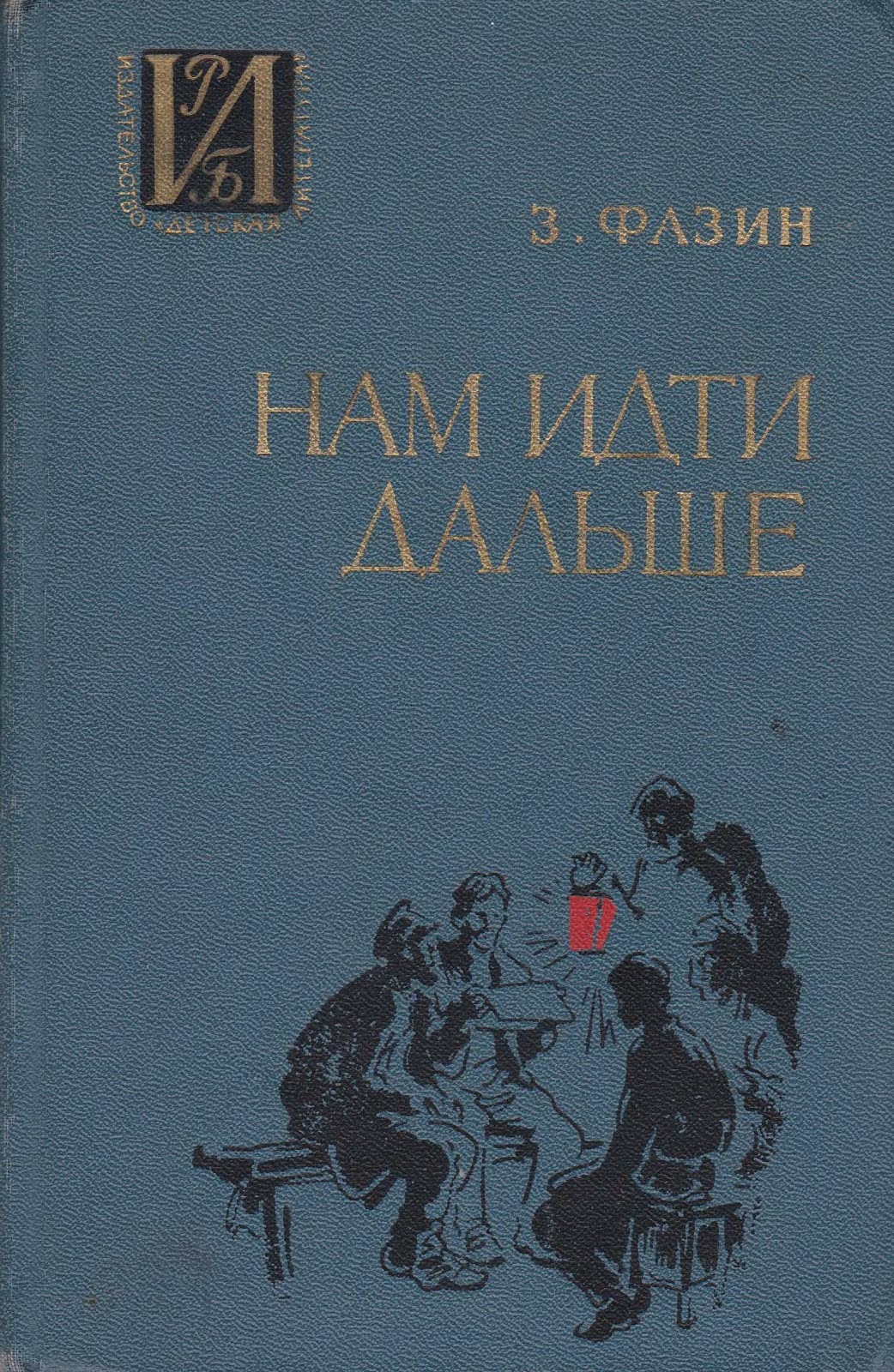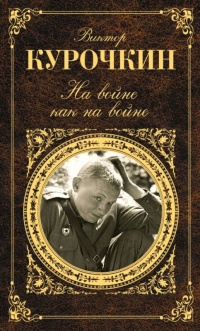что его отец сейчас страдает. И мать все глаза выплачет. Но мы должны работать. Ясно?
— Да, — хотел прервать его слова директор. — Да, но…
— И только это сейчас важно. Здесь не похороны, а тяжелая работа. И мы обязаны ее выполнить.
Он отвернулся. Моленда видел, как майор пытается вытащить сигарету из пачки, бумага разорвалась, и офицер бросил пачку на пол.
— Черт! — выругался он. — Руки трясутся. Скоро из-за вас меня кондрашка хватит. Лучше уж вы за горло душите, а не за сердце!
Ему никто не ответил. Солдат замер у радиостанции. Пожарный, который до сих пор держал руку на телефонном аппарате, тихо снял ее и положил на колени.
— Вот, возьмите. — Моленда подал офицеру свои сигареты.
— Отстань ты от меня! — Майор посмотрел на инженера и, поколебавшись, взял из пачки сигарету. — Спасибо.
Какое-то время он жадно затягивался.
— Схожу-ка я на улицу, — сказал Калямита. — Посмотрю, что там делается у моих пожарников…
— Хорошо. А если встретите Терского… — начал директор.
— Он придет сам, — прервал его Моленда. — Секретарь уже знает, что мы его ждем.
Зазвонил телефон. Звонок показался им предзнаменованием чего-то плохого, ведь теперь все предвещало одни неприятности и заботы, да и на что они могли надеяться?
— Слушаю! — сказал директор.
Все в молчании ждали конца разговора. Он продолжался недолго.
— Ну так вот… — Директор не мог попасть трубкой на рычаги телефона: у него тряслись руки.
— Что случилось? — встревожился майор.
— Через полчаса здесь будут бульдозеры и экскаваторы. Двадцать штук.
— Это хорошо. — Майор отвернулся. — Людям будет полегче.
Моленда заметил, что офицеру едва удалось скрыть свое разочарование. Он подошел к майору:
— Двадцать штук — это немало.
— Немало? Так ведь насыпь еще надо сделать. И как можно скорее.
— Правильно. Ну так в чем дело?
— Химии нет! Вот что нам нужно!
— Будет, — сказал директор. — Будет, это точно.
— Но когда? — спросил майор и тяжело упал на свой стул. Не сел, а именно упал, как будто стал тяжелее.
— Ну, я пошел. — Калямита отдал честь, направляясь к дверям.
— Мы ждем ваших докладов.
— А Терского оставьте в покое, — крикнул вслед ему Моленда. — Он знает, что делает. Понятно?
Калямита так хлопнул дверью, что майор вздрогнул, — казалось, от этого у него еще сильнее разболелась голова. Директор не слышал стука. А Моленда смотрел, как со стены, над косяком, осыпается легкая белая струйка сухой штукатурки.
9
Алойз тащился сзади, глядя на сгорбленную спину старика. В толпе, когда рядом с ним были люди, когда его вели за руки, Квек еще как-то шел, еще как-то жил. А потом? Что будет, если он останется один?
По собственному опыту Алойз знал это чувство пустоты и несправедливости. Пять лет назад от него ушла жена. Он долго не мог найти себе места. Днем еще было ничего, а ночью? Работа занимала мысли, только иногда воспоминание, как внезапная боль, пронзало его. Но ночью… Не спится, в голове рождаются отчетливые, яркие, подробные картины. Он чувствовал дыхание женщины, хотя ее не было рядом, видел лицо. «С кем, с кем теперь обнимается эта шлюха? — бормотал он. — Убью! И пусть меня потом посадят хоть до конца жизни!»
Алойз попытался отогнать от себя эти мысли. Еще сегодня, даже сейчас он не мог забыть о ней. «Если бы она вернулась ко мне, — думал Алойз, — я перестал бы напиваться, не бил бы ее, приходил бы домой прямо с работы…»
Он сплюнул в песок. Заболело в том месте, где было сердце, он махнул рукой: что делать, если ничего нельзя изменить, она ушла, ее нет и никогда больше не будет…
Квек обернулся. Алойзу казалось, что он смотрит прямо ему в глаза, так, словно хочет что-то сказать, о чем-то попросить. Но старик не замечал его. Это Алойз видел Квека и все, что тот нес в себе, — беспокойство, невысказанные слова, тоску. «А парня оставили под развалинами», — подумал он. Алойз посмотрел назад. Свет от горящей цистерны резал глаза. Зрачки Алойза сузились, как у кота. Дым и страх, колеблющиеся тени. Как в тот раз…
В тот день он чуть не погиб. По всей деревне разнеслась ужасная весть, парализующий всех крик: «Немцы!»
Началась паника, люди бегали, не зная, куда спрятаться. Мать, держа Алойза за руку, стояла над отцом и изо всех сил тормошила его, пытаясь разбудить. Он лежал без сознания, одурманенный алкоголем, у стены сарая на снопе овсяной соломы.
— Казек! — кричала мать. — Казек! Немцы!
Отец спал. Со стороны гор начали доходить звуки выстрелов, они постукивали, как будто говорили людям, что все равно никому не удастся спастись.
— Казек! — завывала мать в отчаянии. Она толкнула Алойза: — Беги!
Сын не двинулся с места.
— Беги! — повторила мать.
— А ты? — спросил он.
— Я останусь.
— Нет!
Он потянул ее за руку. Алойз в этот момент ненавидел мать за то, что приходится бросать отца, ненавидел отца, потому что тот был пьян, без сознания и не мог проснуться. Как такого тащить через деревню под градом пуль? Поэтому он ненавидел и себя за то, что оставляет его, что бежит, беспомощный, и не может ничего сделать, никого спасти. Кроме себя. И ее. Вот почему он оторвал ее от мужа, не позволил матери остаться, чтобы был еще кто-то, кого он мог, кроме себя, спасти от смерти.
Они вернулись вечером вместе с теми, кто успел добежать до оврага. Горстка мужчин и женщин, несколько детей. С ними не было ни стариков, ни больных. «Ни пьяных», — думал Алойз, идя за матерью.
Во дворе у стены дома лежал отец. В тот момент он, видимо, даже не понял, что умирает. На лице у него было что-то вроде улыбки, возможно, это было удивление. Мать бросилась к телу, начала причитать. Ее голос присоединился к голосам других женщин, которые из крестьянских дворов, с улиц, с прилегающих к деревне полей, стеная, поднимались к небу, создавая хор скорбных молитв и проклятий.
Потом время стерло в памяти это событие. Отец вместе с другими спокойно лежал на кладбище, в одном ряду, как солдат. Все, каким он был на самом деле, чем жил и что делал, заслонила короткая надпись на кресте: «Расстрелян немцами…»
Но Алойз знал правду о нем. На всю жизнь он запомнил тот момент, когда вместе с матерью они бежали по полю к оврагу, оставив этого человека на снопе овса, беззащитного и одинокого. «Потом он лежал один во дворе, — думал Алойз. — Лежал один».
Он никогда не спрашивал, был ли бог тогда над ними