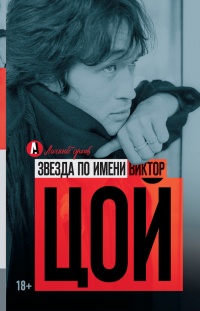у двери в горницы.
— Огонька тебе вздуть или впотьмах дорогу найдёшь? — спросил он шёпотом.
— Ничего мне не надо, начинает уже светать, дойду, Бог даст, куда мне надо, — отвечал тем же шёпотом Праксин, проникая в горницу с лестницей на антресоли, где всегда останавливался Ветлов, когда приезжал в Москву.
Рядом с его комнатой была другая, побольше, где жил Филиппушка.
Ветлов не спал. Он проснулся при первом стуке в калитку, и у него тотчас же мелькнула мысль, что это пришёл Праксин. Горенка слабо освещалась белесоватым светом, проникавшим со двора в отверстие, проделанное в ставне, и огоньком лампадки, горевшей перед образами у Филиппушки, и, подняв голову с подушки, он с замирающим сердцем прислушивался к лёгкому скрипу снега под ногами идущих от ворот к крыльцу, мысленно творя молитву.
— Войдите, войдите, Пётр Филиппыч, я не сплю, — сказал он вполголоса, когда дверь растворилась и на пороге появился Праксин.
Прежде чем подойти к его постели, Пётр Филиппович заглянул в соседнюю комнату и притворил в неё дверь.
— Спит, слава Богу, наш мальчик! — прошептал он, опускаясь на кровать Ветлова. — Я к тебе от всего света тайком пришёл, Ванюша, и нарочно в такое время, когда никто не догадается, что мы виделись сегодня рано утром.
— Что случилось? — спросил Ветлов.
— Беда, которую мы с тобою ждали, кажется, надвигается. Не сегодня завтра меня, может быть, арестуют, надо о спасении Филиппушки подумать. Увёз бы ты его в Лебедино, Ванюша.
— А Лизавета Касимовна?
От волнения у него так спёрло дыхание, что слова произносились с трудом.
— Лизавета цесаревну не оставит в настоящее время. Я её уже на этот счёт пытал. Воля у неё твёрдая, ничем её не убедишь: не стоит против рожна прати.
— Я сделаю всё, что ты прикажешь, Пётр Филиппович, а только дозволь мне тебе мою мысль высказать.
— Говори, голубчик, я для того и пришёл, чтоб с тобою совет держать, на тебя на одного оставляю я моих дорогих сынка и жену.
— Спасибо, Пётр Филиппович, спасибо за доверие. Рад за тебя и за твоих жизнь отдать и, если хочешь, сейчас поеду с Филиппушкой в Лебедино. Но будет ли он там целее — вот что надо обмыслить. А как же Лизавета Касимовна здесь одна останется? С кем ей посоветоваться, если ты будешь в неволе, на кого ей положиться? А Филиппушке ничего здесь не грозит: ребёнок за отца ответчиком быть не может... А если б даже так и случилось, что захотели бы на нём гнев сорвать, так ведь, сам понимаешь, руки у них длинны, везде достанут и его, и меня, а Лизавета Касимовна и вовсе здесь на виду, во дворце цесаревны.
Не будь Праксин так расстроен, он, может быть, заметил бы, как дрожал голос его молодого друга, когда он произносил это имя, но в эту минуту ему было не до того, чтоб удивляться, что Ветлов заботится больше о его жене, чем о нём и о их ребёнке, и он объявил, что именно потому и пришёл к молодому своему другу, а не к жене, чтоб не навлекать на неё лишнего подозрения.
— Я уж давно избегаю к ней заходить, — продолжал он, — во дворце у цесаревны меня ни разу не видели с тех пор, как мы в Москве; видимся украдкой в церкви, на улице, в лавке знакомого купца, а на днях я заходил в огород к просвирне, чтоб ей сказать насчёт того молодца, которого ты и сюда ко мне приводил, чтоб она его не принимала.
У Ветлова захолонуло сердце от тяжёлого предчувствия.
— Ты разве что-нибудь нехорошее про него узнал?
— Всем вам, мне близким людям, надо незнаемых людей остерегаться, а уж особливо таких отчаянных да шалых, как этот твой Докукин. Походя ведь Долгоруковых ругает и клянёт, того не соображая, что доносчиками Москва кишит с тех пор, как царь здесь живёт. Долго ль из-за такого молодца совсем невинному человеку в беду попасть! Я бы тебе советовал от таких, как от чумы, бегать, Ванюша.
— Я ему уже сказал, чтоб он больше сюда не лазил, — заметил со смущением Ветлов.
— Вам надо всем с большой опаской теперь жить. Где думаешь ты с Лизаветой повидаться, чтоб поручение ей моё передать?
— Пусть она сама решит, ей лучше знать. Зайду к ранней обедне в Успенский собор, она туда каждый раз, как может вырваться, приходит...
— Где знаете, там и устройте себе свидание, мне тебя осторожности не учить, сам понимаешь, чему подвергаешь и себя, и её... Скажи ей от меня, что я прошу её ради самого Бога, которому мы с нею так часто вместе молились, чтоб обо мне узнавать не доискивалась и от свиданий со мной наотрез отказывалась. Всё, чего я прошу у Бога, чтоб без шуму и незаметно уйти из этого мира...
— Да что случилось-то, Пётр Филиппыч? — спросил Ветлов, замечая, что посетитель его собирается уходить. — Тяжко мне не знать, откуда тебе грозит беда...
— А ещё тяжелее станет, когда узнаешь... На допросе-то с пытками куда легче стоять человеку, которому ничего не известно!..
— Боишься, что я тебя выдам? — дрогнувшим голосом произнёс Ветлов.
— Не за себя, голубчик, а за тех, кого тебе поручаю, боюсь. Ты им нужен свободный да сильный, цельный одним словом, а не искалеченный да подозреваемый. Нам заместители нужны, чтоб начатое нами дело продолжали, когда нас не будет. Блюди наш народ в лесу, Ванюша. Как я его вёл, и ты веди. Понял?
И, не дожидаясь ответа, избегая встречаться с ним взглядом, чтоб не выдать, может быть, сердечной муки, терзавшей его, Праксин подошёл к двери в соседнюю комнату и, растворив её, несколько мгновений простоял на пороге, глядя на спавшего сына и мысленно творя молитву.
— Спит, — глухо проговорил он, возвращаясь к Ветлову. — Оно так-то лучше... пусть тогда только узнает, когда всё свершится. Ты сумеешь ему всё объяснить, чтоб знал, что отец его остался верен своей совести до конца, совести русского православного человека. Когда войдёт в разум, ты ему это объясни, как следует: что такое родина, царь-помазанник и вера православная. Я тебя хорошо узнал, Ванюша: ты из крепких, ты не дашь в нём угаснуть духу, ты такой же, как и его мать... Спаси её, Господи! До последнего издыхания