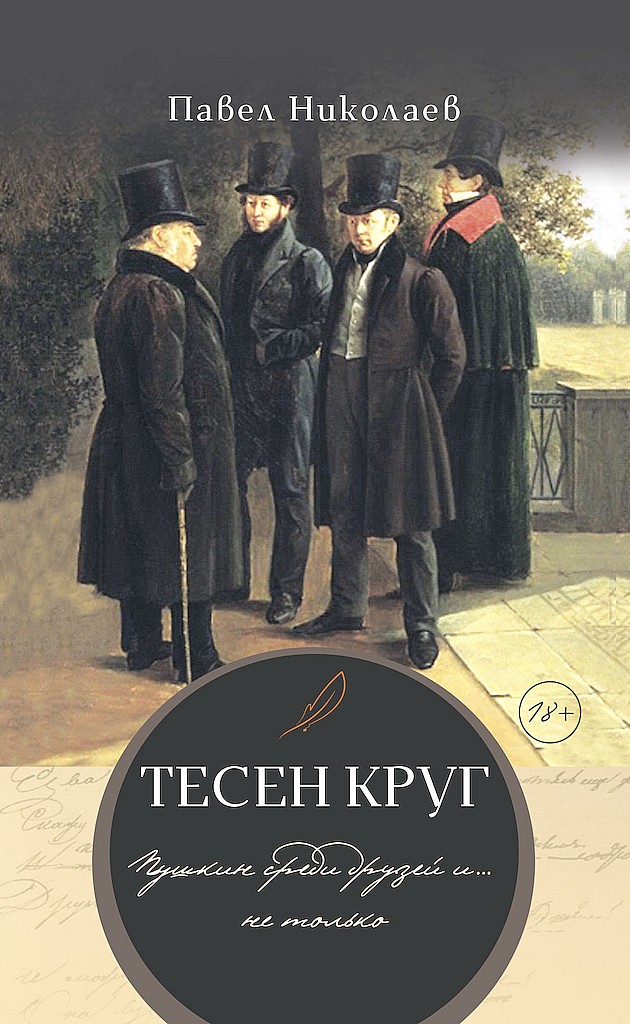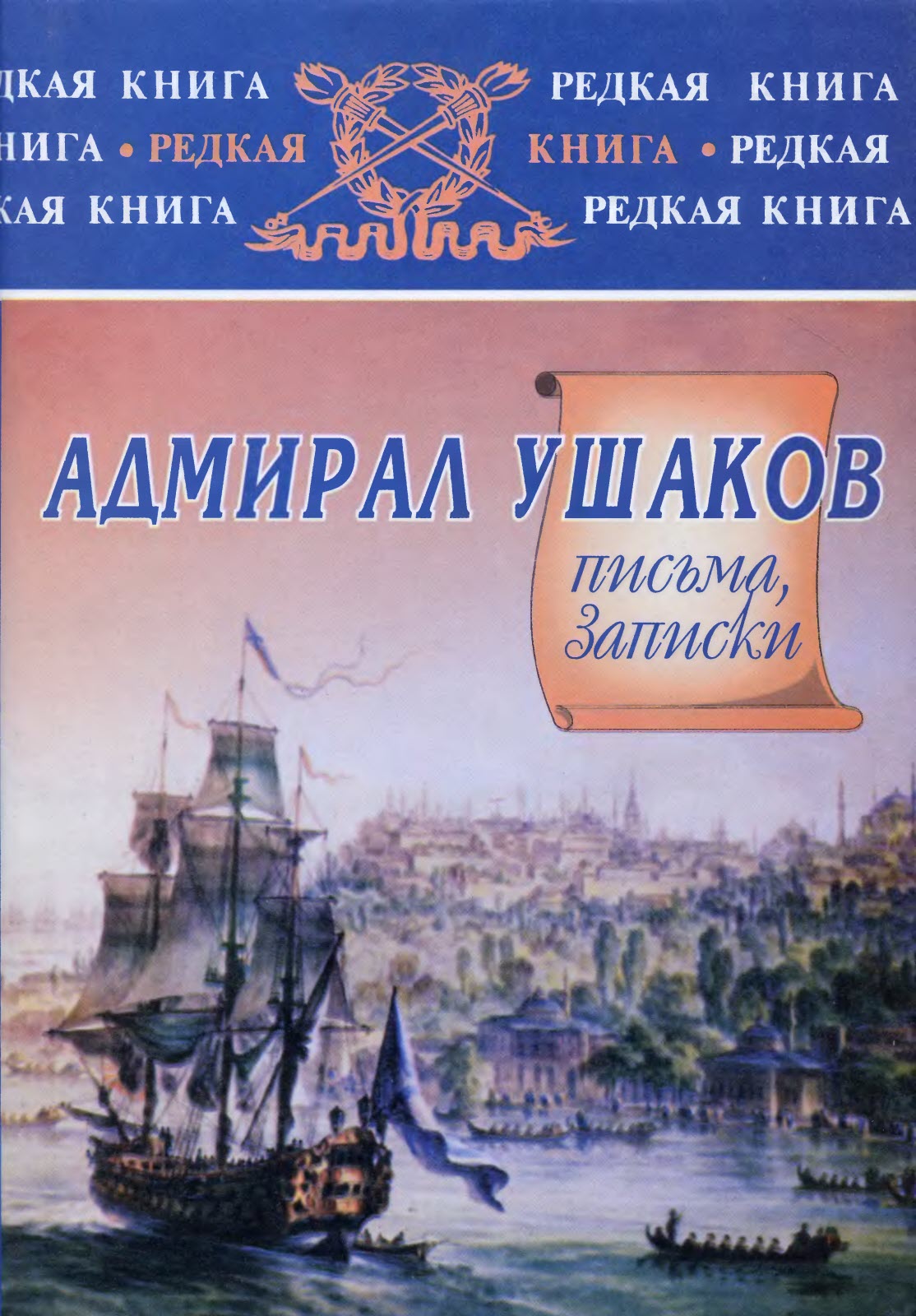со мною. И это потрясающее чудо.
Ивинская попросила автограф. Борис Леонидович пошутил:
– Как это интересно, что у меня ещё остались поклонницы! – и уже серьёзно: – У меня книги сейчас почти все розданы. Но я вам найду.
В одну из первых прогулок с Ольгой Всеволодовной Пастернак спросил:
– Хотите, я подарю вам эту площадь?
Она хотела – это была Пушкинская площадь.
Тогда же Борис Леонидович говорил Ивинской:
– Вы не поверите, но я – такой, каким вы меня видите сейчас, старый, некрасивый, с ужасным подбородком, – но я был причиной стольких женских слёз.
Ивинскую тоже Бог не обидел поклонниками: из-за неё покончили самоубийством оба её мужа, отцы её детей. Измен с её стороны не было, но чувство вины перед почившими осталось, о чём она и поведала Борису Леонидовичу после его объяснения, исписав целую тетрадь. Искренность любимой поразила Пастернака. Ирина Емельянова, дочь Ольги Всеволодовны, говорила позднее:
– Очень живо представляю себе, как обескураживающе подействовала на Бориса Леонидовича эта её доверчивость, открытость и сколько Лара во второй части романа[28] обязана материнской тетрадочке: отчаянностью, доверием судьбе, всё перекрывающей жалостью.
Свои первые впечатления о любимой Пастернак выразил в стихотворении «Без названия»:
Недотрога, тихоня в быту,
Ты сейчас вся огонь, вся горенье,
Дай запру я твою красоту
В тёмном тереме стихотворенья
Посмотри, как преображена
Огневой кожурой абажура
Конура, край стены, край окна,
Наши тени и наши фигуры.
Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Всё равно, на свету, в темноте,
Ты всегда рассуждаешь по-детски.
Замечтавшись, ты нижешь на шнур
Горсть на платье скатившихся бусин.
Слишком грустен твой вид, чересчур
Разговор твой прямой безыскусен.
Пошло слово «любовь», ты права.
Я придумаю кличку иную.
Для тебя я весь мир, все слова,
Если хочешь, переименую.
Разве хмурый твой вид передаст
Чувств твоих рудоносную залежь,
Сердца тайно светящийся пласт?
Ну так что же глаза ты печалишь?
Вскоре прогулки влюблённых переместились из окрестностей Пушкинской площади в Потаповский переулок. Обитатели 18-й квартиры отнюдь не приветствовали их.
– Уже давно, – вспоминала Ирина, – до наших детских ушей долетают суровые суждения бабушки о невозможном, немыслимом ни с какой точки зрения романе матери с женатым человеком («Моих лет!» – восклицает бабушка). Для нас[29] не секрет и её вечерние дежурства на балконе, когда между рядов лип нашего двора долго бродят две фигуры – одна из них мать. Прощающиеся уходили во внутренний двор – бабушка перемещалась к другому окну, и всё это до тех пор, пока громкий, рокочущий на весь переулок голос Бориса Леонидовича – «Посмотрите, какая-то женщина хочет выброситься с шестого этажа!» – не отгонял её от наблюдательного пункта.
О романе, проходившем между тёмными силуэтами старых лип, вещали и другие сигналы:
– Время от времени наша крохотная квартирка оглашалась призывными стуками – стучали по радиатору ниже этажом наши соседи, счастливые обладатели телефона, вызывая мать. Стукнув в ответ по вздувшейся от военной сырости стенке, мама мчалась вниз. Возвращалась нескоро, с лицом отсутствующим, погружённая в себя. В этих слухах, стуках, поглядываниях прошёл первый год романа.
На второй год Борис Леонидович наконец-то был приглашён в дом любимой, к его приходу готовились: на столе – невиданное дело – коньяк и шоколадные конфеты; Ирина разучивает с матерью стихи Пастернака: «Дрожат гаражи автобазы…», в которых не может понять ни слова. Мать нервничает. Но вот наконец и он.
– Девять лет – возраст, когда вполне возможно точно запомнить и описать впервые увиденного человека, – полагала позднее И. И. Емельянова. – Однако я не помню, каким увидела Бориса Леонидовича весной 1947 года, осталось общее впечатление чего-то необычного: гудящий голос, опережающий собеседника, это знаменитое «да-да-да-да», смуглость, чернота волос, странный африканский профиль, смесь араба и его коня.
Представление Ивинской поэта семье проходило в последний день второго месяца весны: «Весенний день тридцатого апреля…». Пастернак произвёл на родителей Ольги Всеволодовны вполне положительное впечатление, но скандалы, связанные с ним, продолжались.
– Увы, приём не принёс мира в наш дом, бурлящий скрытыми страстями, которые до меня, девятилетней, доходили глухими подземными толчками. Прошёл год, бурный и странный, мать часто рыдала в своей комнате, взрывалась, в деда, милого бедного моего деда, которого мы с Митькой без памяти любили, летели ложки и чашки, когда он начинал подшучивать над стихами Бориса Леонидовича. Бабка осталась непримиримой; её всё не устраивало: и то, что Борис Леонидович женат, а у матери двое детей, и надо подумать об их обеспечении – нужен муж; и то, что он старше мамы намного, и то, что всё «не как у людей».
Родители бушевали, а «молодые» ловили каждую минуту близости. В сентябре 1949 года Пастернак писал в стихотворении «Осень»:
Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним
Полно всё в сердце и природе.
И вот я здесь с тобой в сторожке.
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стёжки и дорожки
Позаросли наполовину.
Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.
Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.
Ещё пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.
Привязанность, влеченье, прелесть!
Рассеемся в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри или ополоумей!
Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шёлковою кистью.
Ты – благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты – отвага,
И это тянет нас друг к другу.
А в следующем месяце случилась беда – арест Ивинской. Её семья осталась почти без средств существования. «Дед» (М. Н. Костенко), взявший опеку над детьми, получал 66 рублей как инструктор сапожного дела