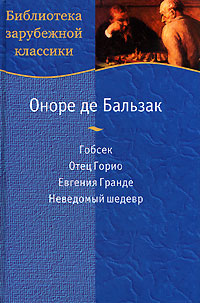покажется чем-то неуместным, противоестественным, кощунственным.
Отсюда надобно учитывать следующее. Для людей уже нативно важно ощущать собственную принадлежность к чему-то знаменательному, как бы привносящему в их заурядную повседневность отголосок своей чудодейственной значительности (ведь хотя религия не есть продукт божества, она есть продукт обычая, а обычай во мнении обывателей суть нечто священное); им любо, когда возвышенная идея подавляет их, но при этом не угнетает, не попирает, не оказывается non supra («недосягаемой»), понеже не требует элитарных усилий; словом, которая, высясь над ними, тянет их за собой, дабы могли они взирать на сию идею — всеобщее таинство — как на величественный собор своей сопричастности чему-то грандиозному и нетленному, чему-то, что как бы сплачивая их воедино, как бы нивелирует несамодостаточность каждого из них, да теплит лукавую надежду на возможность лучшего бытия, нежели то, каким они располагают («Хорошо там, где нас нет»). Таким образом, для народного сердца религия — это благонравная, во всех отношениях похвальная многовековая традиция, придающая будничности специфический аромат торжества, без которого пресная жизнь стала бы еще скуднее (ведь само явление «праздника» берет свое начало в религиозных обрядах); религия — это клюка для немощных, опека для сирых, проблеск для заблудших и отчаявшихся… но также, — ничего не попишешь, — горн, раздувающий гордыню, нетерпимость, заблуждения — весь тот слезоточивый чад, коим застилается свет истины…
«Кто учил благословлять, тот учил и проклинать» — «Из тех же уст исходят благословение и проклятие». Ветхозаветный бог — Адонай104 — добрый, честный, щедрый, заботливый, милостивый, а наряду с тем — Саваоф105 — пафосный, своенравный, властолюбивый, меркантильный, мелочный, ревнивый, гневливый, обидчивый, мстительный — суть «большой ребенок» — то умильно-наивный, то капризно-жестокий. А посему он служит как нельзя более ладной марионеткой в руках чревовещателя, марионеткой, что попеременно являет рассудительность и сумасбродство, добродушие и злопамятство, милосердие и беспощадность, правосудие и беспредел. Сей бог — ревнитель суеверий и предрассудков — контрадикторно требует от верующих двух взаимоисключающих чувств — страха и любви. «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя и истребляя вас…» — писано во «Второзаконии». И хотя церковь ставит приоритетной своей задачей изливать на души мирян елей религиозных утешений, в сей фиал «благотворной лжи», по канону, почти всегда примешана превалирующая доля обскурантистских стращаний, — ибо угрожать и запугивать куда проще, куда продуктивнее, нежели убеждать и наставлять. Так на одно благословение с горы Гаризим приходится по полдюжины проклятий с горы Гевал106.
Засим следует риторический вопрос: кто есть Сатана («Противоречащий»), как не обозленный — негативный — Господь? «Бог и дьяволу Бог». Монотеизм неизбежно приводит к отождествлению диады антагонизирующих аспектов — добра и зла — во Всесущей Монаде — Абсолютной Личности, чья безусловная воля — Вселенский Промысел: «Я образую свет и творю тьму, учреждаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это». Как парадоксально выразился Эпикур: «Коли есть бог, то откуда зло? И откуда добро, коль бога нет?»
В сочинении «De servo arbitrio» («О рабстве воли») Мартин Лютер, в частности, пишет: «Если бы я мог хоть каким-то образом уразуметь, как это Господь милосердный и справедливый являет нам столько гнева и несправедливости, то не было бы нужды в вере». Вот и получается, что вера чаще всего — только-то суеверность — богобоязнь — иррациональный ужас неведомого. Люди в большинстве своем веруют, чтобы, как завещал Паскаль, не рисковать (ибо существование бога суть презумпция); впрочем, как правило, у них попросту нет выбора, ведь выбор есть только там, где налицо альтернатива, альтернатива же набожности — мудрость, — и то и то предполагает праведность, но, разумеется, не в одном и том же смысле. Благочестие нередко — лишь проявление слабости; добродетели неотъемлема сила. Благочестие обычно воспринимается как общественная повинность и наиболее строго блюдется, стало быть, на чужих глазах; добродетель — это личностный долг, а потому, парафразируя Монтеня, во всем и везде ей достаточно своих собственных глаз, дабы блюсти оный, и нет на свете другой пары очей, которая следила бы за добродетельным так же пристально и к которой бы питал он вящее уважение. Наконец, благочестие состоит скорее в уклонении от греха, нежели в свершении правых деяний (то есть в сомнительной «надежде на лучшее»: «Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас»), посему неудивительно, что прямая стезя благочестия подчас на кривые тропы бесчестия заводит; тогда как добродетель суть деятельность, согласная здравому суждению и искренним чувствам (то есть истинной вере — вере в истину), чья цель — этически прекрасное (так что, по Аристотелеву слову, добродетель, каковая взаимно проистекает от верно направленных интеллектуального и эмоционального истоков души, невозможно использовать во зло). И как указует завет со страниц «Критики чистого разума»: «Будем считать нравственные поступки обязательными не потому, что они суть заповеди Бога, а будем считать их Божественными заповедями потому, что внутренне обязаны их совершать». Все вышеозначенное зиждется на фундаментальном принципе: мудрый стремится к тому, что почитает благом; обыватель почитает благом то, к чему стремится… Откровенно буде сказано, люди вовсе и не верят в бога: они верят в то, что они верят в бога, поскольку мнят в этом свое благо; равно как мудрый знает, что его благо — вера в разум — вера в человека — вера в себя… И вдоволь на свете таких умников-тартюфов107, которые рабски (в данном случае для них сие почетный комплимент) «ходят под Господом» и крестятся на каждом перекрестке, руководствуясь тем же пресловутым пари Паскаля108 — оскорбительным как для человека, так и для божества, — покуда в мыслях у них: ненависть, коварство, зависть, корысть, похоть («За крестом прячется сам сатана», — по пословице). Что уж говорить, для подобных ханжей, — во мнении коих безбожие синонимично безнравственности, но безнравственность отнюдь не синонимична безбожию, — ничего не стоит согрешить: «Crede firmiter et pecca fortiter» («Тверже верь, греши сильнее»); они вертят своего карманного божка то так, то этак, точно б детскую куклу-перевертыш, у которой с одной стороны написана улыбка, с обратной же — хмурое выражение: вел себя праведно — бог был бдителен («каждый шаг считал»), поддался искушению — бог простит («вера твоя спасла тебя; иди с миром»), — совсем как в загадке про якорь: «Когда он нужен — его выбрасывают, когда не нужен — поднимают». А в чем же, собственно, сии неправедные праведники находят себе оправдание? — В