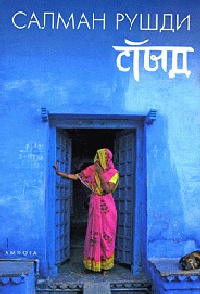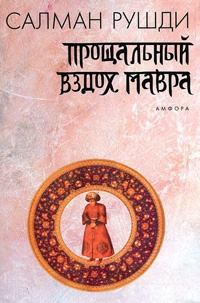Сэр Дарий действительно охладел к виски. Однако его отчаяние при виде того, что он называл общим упадком культуры, нисколько не уменьшилось. Предоставленный самому себе, сэр Дарий размышлял, каким образом его семья является отражением этого упадка. Как главе семьи, «власть внутри власти» принадлежала ему по праву — не только в ее магическом, устрашающем и удаленном аспекте, но и в буквальном, более привычном значении этого слова; однако хотя он действительно стал очень далек от своих детей, в нем давным-давно уже не было ни капли магического или устрашающего. Что до «силы внутри власти», интерпретируемой им как сохранение внутрисемейной солидарности и преемственности, главным образом молодыми членами семьи, ее «воинами», то об этом вообще всерьез говорить не приходилось. «Мы опустились до того, — вслух размышлял он, — что увязли в нижнем подразделе третьей концепции, „плодородия внутри плодородия“, что в применении к нам означает всего-навсего праздность, мечты и музыку».
Собственные научные изыскания сэра Дария увенчались успехом; статья, подписанная его именем, — «Изгои общества, или Существует ли четвертая функция?» — была принята к печати авторитетным изданием «Труды Общества евро-азиатских исследований», а сам он приглашен был прочесть эту статью в виде лекции на ежегодном открытом заседании общества в Берлингтон-Хаус. Темой лекции была предложенная им «четвертая концепция» — «отверженность», состояние прокаженного, парии, изгоя, необходимость существования которых он интуитивно давно уже чувствовал, а приведенные им в качестве аргументов примеры были самого разного свойства — от индийских неприкасаемых (хариджанов[90]Ганди, далитов[91]Амбедкара) до выбора Париса. Разве сам Парис в этом знаменательном мифе не был воплощением аутсайдера? Или же аутсайдером была Стрифе, богиня, создательница золотого яблока? В любом случае этот пример подходил.
Теперь, когда сэр Дарий бросил пить, его тайный страх мучил его еще сильнее как в часы бодрствования, так и в снах, где ему являлась обнаженная фигура Скандала в белом загородном особняке, и растущая уверенность, что он сам — пария, подобно объектам его научного исследования, или должен стать таковым и, весьма вероятно, станет, если его Ложь откроется, придавали его словам такую страсть, словно они были написаны огненными буквами. К этому времени он стал одиноким состарившимся человеком. Даже в масонских собраниях — последнем утешении сэра Дария — ему теперь было отказано; вместе с концом Империи рассеялись члены индийской ложи ордена, а новая ложа была столь же ничтожной и жалкой, сколь великолепна была ее предшественница, и сэр Дарий уже давно прекратил посещать ее собрания. (Последнее время он все чаще вспоминал своего бывшего приятеля, брата по ложе и партнера по игре в сквош, Хоми Катрака. Он даже выразил желание как-нибудь пригласить его к обеду, чтобы возобновить это старое знакомство, и леди Спенте пришлось осторожно напомнить ему, что Катрак умер три года назад: был застрелен вместе со своей любовницей в их гнездышке одним морским офицером — рогоносцем. Событие это не сходило со страниц газет несколько месяцев, и тем не менее сэр Дарий умудрился его не заметить.)
Приглашение в Англию означало конец этого призрачного существования, погруженности в первопричины событий, в которых сам он не участвовал. «А кроме того, мы увидимся с Месволдом, — сияя, говорил он леди Спенте. — Как славно мы проведем время! Охота на куропаток! „Атенеум“![92]Английский мед! Жаворонки!»
Леди Спента прикусила язык. Англофилия ее мужа с годами усиливалась. Он частенько превозносил «Соединенное Королевство» за достоинство, с которым оно ушло из своих колоний, и мужество, с которым эта израненная войной страна возродилась к жизни. (План Маршалла при этом не упоминался.) Индию же он, напротив, постоянно критиковал за «застой» и «отсталость». Он писал в газеты бесчисленные письма, высмеивая пятилетние планы. «Какая польза от сталелитейных заводов, если мы погружены в невежество относительно собственной природы? — грозно вопрошал он. — Величие Британии зиждется на Трех Концепциях…» Эти письма никто не публиковал, но он продолжал их писать. В конце концов леди Спента перестала отправлять их и просто сжигала втайне от мужа, чтобы не ранить его чувства.
Почему Уильям Месволд перестал писать? Сэр Дарий часто задавал себе этот вопрос, не подозревая, что леди Спента могла бы на него ответить, если б захотела. «Может быть, из-за моих исследований, — гадал сэр Дарий. — Может быть, он все еще задет тем, что нацисты сделали с этими идеями? Конечно, он государственный служащий и должен быть осторожен. Неважно! Я все объясню ему за ужином».
«Поезжай, если тебе нужно. Но я не поеду», — сказала мужу леди Спента. Не зная, как предупредить об унижении, ожидавшем его в любимой Англии, она решила, что не будет свидетельницей этого краха. Он улетел на «ВОАС Super Constellation», облаченный в рубашку из египетского хлопка с крахмальным воротничком и манжетами, которую надевал в зал суда, и костюм-тройку из тончайшей шерсти; на животе у него сверкала цепочка часов. Леди Спента прочла на его лице выражение трагической невинности, как у тех коз, что гонят на бойню. Она написала лорду Месволду, умоляя его «быть, по возможности, милосердным».
Месволд не был милосерден. Несмотря на настойчивые письма сэра Дария и мольбы леди Спенты, он не встретил своего старого друга в аэропорту Хитроу и не послал никого вместо себя, не пригласил его остановиться в своем доме и не предложил устроить в своем клубе. Леди Спента, предвидя это, попросила Долли Каламанджа, чтобы ее муж Патангбаз приехал в аэропорт, и не кто иной, как круглолицый Пат, приветствовал сэра Дария во временном зале прибытия (тогда строительство аэропорта еще не закончилось и условия для пассажиров были значительно хуже, чем в бомбейском аэропорту Санта-Круз). Сэр Дарий выглядел измученным и выбитым из колеи после изнурительного путешествия и не менее изнурительного допроса чиновников иммиграционной службы, на которых, к его замешательству, не произвели впечатления ни его объяснения, ни приглашение журнала, ни даже его рыцарский титул, сообщение о котором они встретили крайне скептически. Ссылки же на известного лорда Месволда вызывали лишь недоверчивый смех. После нескольких часов допроса сконфуженному и сломленному сэру Дарию был наконец разрешен въезд в Англию.
Пат Каламанджа жил в Уэмбли, в просторном пригородном особняке из красного кирпича, украшенном ложными белыми пилястрами и колоннами, с целью придать ему вид солидного здания в классическом стиле. Сам Каламанджа был открытым, добродушным человеком, искренне желающим угодить отцу своего будущего зятя, и предельно занятым к тому же, так что весь дом был в полном распоряжении сэра Дария, который видел хозяина лишь за столом. За завтраком Пат Каламанджа, бизнес-магнат до кончиков своих ухоженных ногтей, но не мастер поддерживать светскую беседу, лез из кожи вон, чтобы гость чувствовал себя как дома. «Наваб Патоди! Ему нет равных в крикете! А „Серебряный цветок“! Сорвиголовы! Отличная футбольная команда!» За ужином он говорил о политике. Что касается предстоящих выборов в Америке, мистер Каламанджа очень симпатизировал Ричарду М. Никсону, потому что этот джентльмен не миндальничал с русским лидером Хрущевым во время осмотра выставочного образца кухни на московской торговой ярмарке. «Кеннеди? Слишком смазлив; значит, ненадежен, как вы думаете?» Но мысли сэра Дария были далеко.