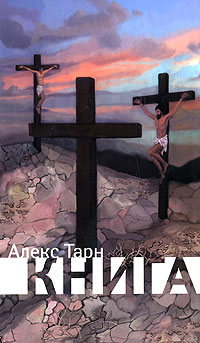— Но я ничего против них не предпринимал.
— Ты был слишком хитер, чтобы демонстрировать ревность к соперникам. Ты просто ждал, когда Кристоф, занимающийся торговлей мебелью, перестанет мириться с тем, что по воскресеньям я предпочитаю сидеть за письменным столом, а не ездить с ним в его новой машине на Вальхензее.[221]
— И ты меня упрекаешь? За умение предвидеть дальнейшее?
— Ты не требовал от меня верности. Коварное великодушие! Пока я мчался вверх и вниз по американским горкам любви, ты гладил паровым утюгом три свои рубашки, дожидаясь, пока я позвоню в дверь, а потом рухну в кресло и, вздыхая, признаюсь: «Так дальше продолжаться не может! Я не могу участвовать на равных в упорядоченной жизни квалифицированного механика, каким бы симпатичным и атлетически сложенным он ни был. Я просто умру, если три недели подряд буду жариться на пляже Миконоса.[222]Я, Фолькер, формировался в обход настоящей жизни. И для упорядоченного существования не гожусь. Что же мне делать?» Ты, не проронив ни слова, продолжал гладить. Но и через пять лет не забыл ни одной подробности об этом механике, которую я тебе выболтал. Однако ярче всего проявилось твое коварство, когда ты сказал мне, опьяненному новой страстью, о чем ты сразу же догадался по глазам…
— Ты имеешь в виду Александра? Из Аубинга? Оптика?
— …Когда ты сказал, как бы между прочим: «Теперь ты точно нашел себе идеального партнера. Теперь ты счастлив. Теперь, может быть, ты перестанешь работать? Поселишься вместе с ним в одной квартирке. Кто-то из вас будет стелить постели, кто-то — готовить еду. Тебе наверняка будет хорошо»… Ты тогда поймал меня на моем нелепом…
— …Нелепом?…
— … Страхе, что душевная умиротворенность, счастливая любовная связь (которая, разумеется, оставалась бы счастливой недолго) могут помешать мне писать и думать, отдалят от всего этого безумного духовного театра. Вероятно, неспокойным я тебе нравился больше, чем когда был спокоен. Истеричным — больше, чем умиротворенно-влюбленным. Но к чему углубляться еще дальше в различия между моими замечательными любовниками и моей загадочной любовью к тебе, между любовными переживаниями и чувством защищенности, анализировать феномен чередования все новых побед и неизменных возвращений домой? Я сейчас думаю — задним числом — о твоей тихой власти надо мной. Она основывалась на моей уверенности, что на тебя можно положиться, и на твоей способности в нужный момент сказать: «Говоришь, тебе плохо? Вспомни о Берте Брехте. В твоем возрасте он отправился в изгнание. Тебе стукнуло сорок, и ты чувствуешь, что уже израсходовал все силы? Может, это чувство и есть начало нового жизненного этапа».
Что касается подарков, то Фолькер не был очень изобретательным, и отпечатка его личности подарки на себе не несли. Как-то на мой день рождения он притащил мне огромную вазу, чуть ли не с него ростом, преодолев десять лестничных пролетов: «В нее можно ставить прогулочные трости!» — «Прогулочные трости? Спасибо». В другой раз он радостно наблюдал, как я достаю из оберточной бумаги десятисантиметровую модель парижской Триумфальной арки, которую он раскопал в антикварном магазине. В период, когда с деньгами у него было совсем плохо, он презентовал мне книжечку издательства «Реклам» с «Рождением трагедии» Ницше: «Прочти — в плане стилистики это настоящая буря». Я же с течением времени все чаще дарил ему то, в чем он настоятельно нуждался.
После обмена подобными знаками внимания мы обычно ужинали в моей комнате, за длинным столом, и, прежде чем перейти к разговорам, слушали версальские концерты «застольной музыки» эпохи барокко или — в мои дни рождения — что-нибудь более легкое: Лайонела Хэмптона,[223]Карла Филиппа Эммануэля Баха,[224]танго…
Рихарда Вагнера и симфонии Антона Брукнера Фолькер слушал один, у себя дома. Моих способностей для постижения этих грандиозных музыкальных сооружений не хватало. Фолькер же вступал под их своды с чувством блаженства, а иногда и сам подпевал песням соблазнительных дочерей Рейна:[225]«Вагалавейа… Лучше храните постель Спящего…»
Гитте Хеннинг и вообще немецкие шлягеры давно нами не обсуждались, даже как фоновая музыка.
Иногда я покупал какие-нибудь курьезные CD, с гимнами СДПГ или записью скандально знаменитой Флоренс Фостер Дженкинс[226]— американской миллионерши, которая не умела петь, но тем не менее под аккомпанемент большого оркестра исполняла партию Царицы ночи. Порой мы обменивались мнениями о таких раритетах за чашкой эспрессо:
— Она не может взять ни одной ноты. Это публичная демонстрация безумия!
— Как бы то ни было, ей хватило духу, чтобы в 1944-м году выступить в переполненном Карнеги-Холле.
В Сочельник Фолькер всегда появлялся у меня (с напольной вазой, Триумфальной аркой или еще чем-то в таком роде) разодетым, то есть в темном костюме и при галстуке. На мои же дни рождения, весной, бывший принц дюссельдорфского детского дома и позднейший участник студенческих беспорядков всегда приходил в клетчатых рубашках с короткими рукавами. И мы обычно сидели на балконе — если шел дождь, под тентом.
Фолькер, сам совершенно не умевший готовить, мог принести, в зависимости от времени года, спаржу или тыкву — надеясь, что я придумаю «соответствующее меню». Пока я трудился на кухне, он делал карандашные пометки в очередной рукописи, лежавшей на моем письменном столе.
О чем мы еще могли спорить, после шестнадцати или семнадцати лет столь тесного знакомства?
О мужчинах? О великолепной Тине Тернер,[227]в шестьдесят лет оттеснившей от рампы «Спайс Гёрлз»?
Об исламских фундаменталистах?
О финансовом ведомстве, от которого зависят все?