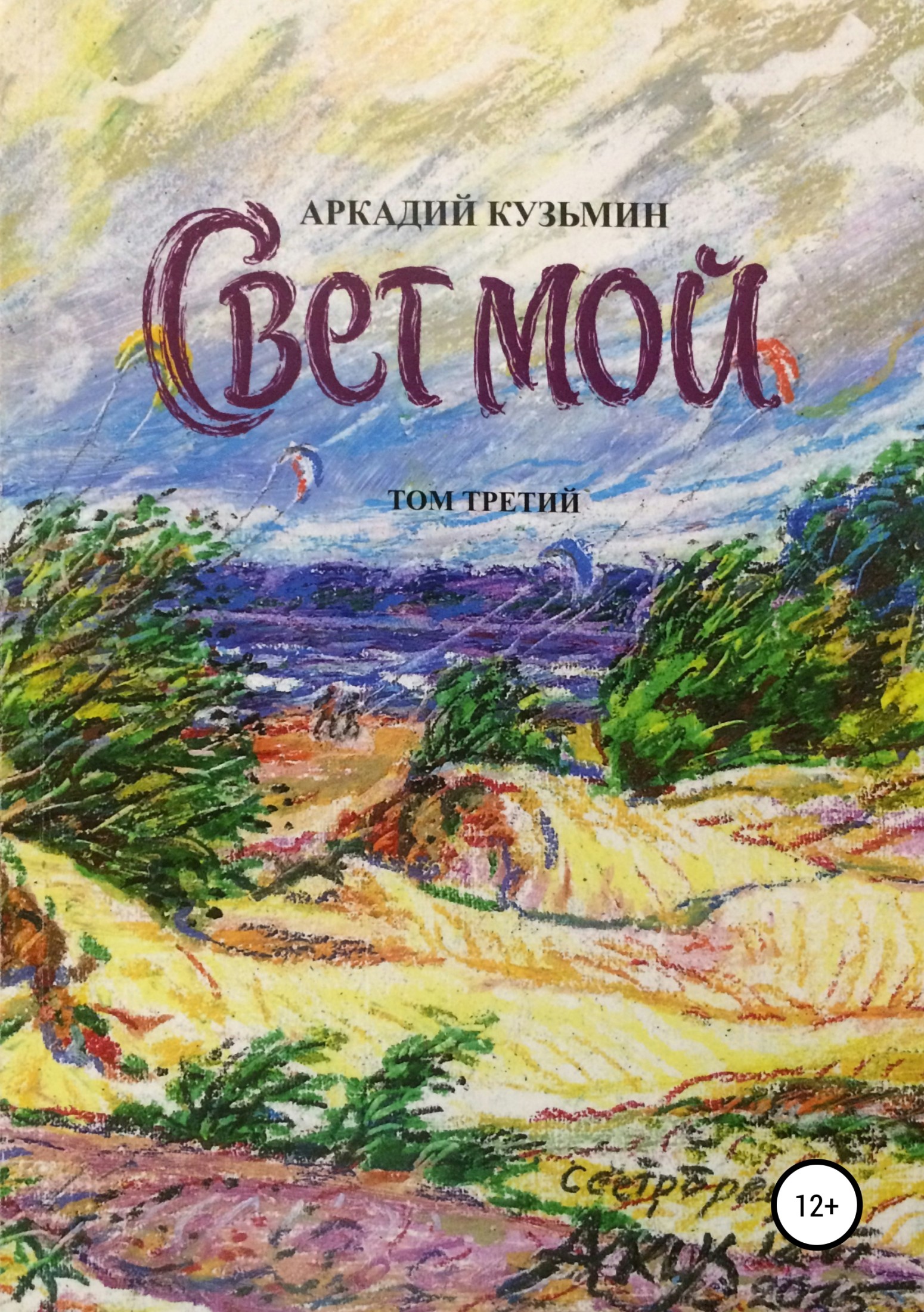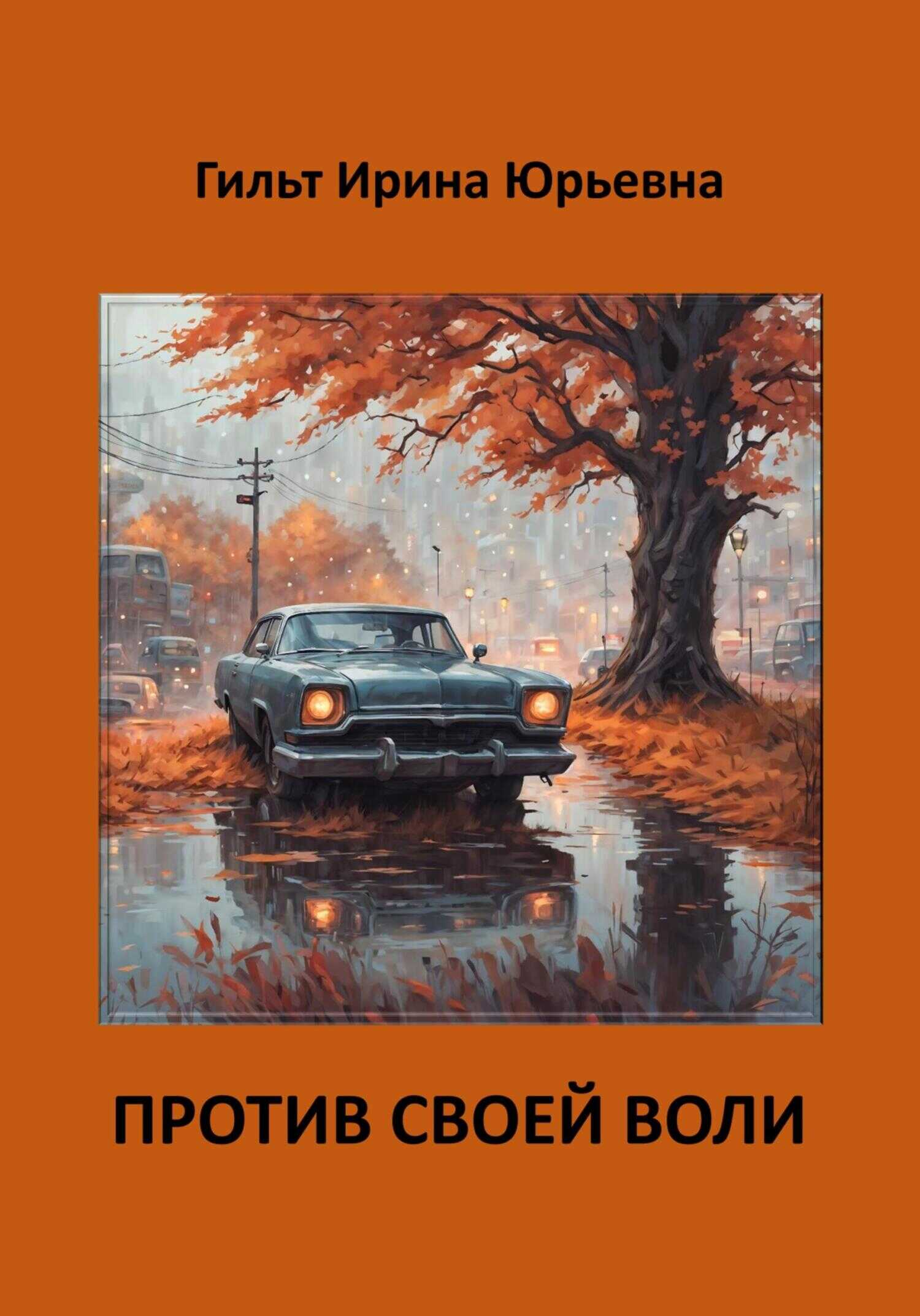легко идти, даже хорошо. На одиннадцатые-то сутки после выселения. Слепил снег, бодрил свежо искрившийся воздух: пахло ранней весной! Все взошли на пригорок довольно резво, как после длинной спячки в глухой берлоге; были и свежи, восхитительны впечатления от этих минут– что от чистой и студеной родниковой воды, которой напились в жаркий летний полдень.
Так дивно было на душе, что вышли наконец из своего убежища – покинули его; вновь дивились осторожности людей, оставшихся в нем – именно под влиянием страха: верилось в свою удачу…
Итак, начиналось пока гладко и удачливо. Правда, поход осложнялся, как внезапно оказалось, выбором проселочных дорог, занесенных и заброшенных, а потому едва заметных, различимых – о них даже не у кого было и спросить сейчас, не то, что прежде (нигде не встречались жители); выбирали по наитию, не ведая, куда какая заведет, в основном придерживаясь направления, подсказанного следующим военнопленным-ездовым, а ведь очень важно было не зайти в конце-концов в тупик и не делать понапрасну лишние крюки туда-сюда; главное, ведь время, силы нужно было сберегать, с учетом тех неблагоприятных обстоятельств, которые еще могли, не дай-то бог, и задержать в пути (прикидывать-то нужно все).
Непредвиденные осложнения возникли также с переходом большака. Самым первым же. По нему назад уже черная лавина отступающих немецких войск катилась – катилась почти в бешенном галопе, смешиваясь и крошась, как лед в реке во время ледохода. Да куда ж свернешь от них? Нет! Нет! Надо перейти большак, во что бы то ни стало. Побыстрей. Радость была больше огорчения. Наконец-то немцы побегли! Фронтовые части. Еще силища изрядная, свирепая.
Это зрелище скорее было ненормальным, чем забавным. Оснащенные вооружением немецкие войска с обозами откатывали к юго-западу, занимая вширь весь почти большак, а по кромке им навстречу двигалась открыто группка выселенцев с малышами, что немало удивляло отступающих, повидавших всякое в России. И, испуганно воззрившись, словно на чуму, некоторые гитлеровцы из числа наиболее досужих ярых – останавливали караван неустрашимых русских женщин и детей; спрашивали строго, для порядка, кто они, куда идут.
– Rus, wohin? Wohin? – И торопились, не скрывая этого.
– Мы – Nach Hause, – покорно отвечала им Наташа, неся Таню на руках и так наглядно выдавая ее за дочку свою, на всякий случай подстраховываясь.
– Wohin?
– Dort, – неопределенно-наугад кивали в сторону. Главное тут – следовало лишнюю минуту выиграть; тоже свой мотив в такой словоохотливости, перемешанной с видимой правдивостью.
Уж не партизаны ль? Да какое! (Немцы почему-то во всех русских партизан подозревали). Одни женщины и дети. Разве то не видно?
И отступавших солдат порой еще смешила невообразимая чумазость этих встреченных бог весть где русских жителей: они, посмеиваясь, и не задерживаясь более, чем можно, проходили спешно дальше. Очень запыхавшиеся. Уже пот катил по корявым их лицам. Так беглецы перепорхнули вскоре на другую сторону дороги, только обозначился разрыв среди лавины солдат… Под самыми ногами солдатни, лошадей перепорхнули… Левей взяли.
Полупробежкой отдалились прочь от этой трассы. Употели.
Все теплей в спины грело возвышавшееся в голубовато-дымчатой завесе солнце, и катастрофично размягчался снег повсюду; скоро снег стал рассыпаться, набухать водой; потемнели, оседая, сдутые места пригорков, обнажились голою землей. Становилось вязко – все трудней идти. А еще неясная дорога где-то кончилась, точно в снег ушла, растворилась, – не обнаруживалось под ногами ее стойкое основание. И поэтому-то, потолокшись зря, выселенцы вместо того, чтобы снова выйти кружно в безопасную для них зону, подальше от большого тракта, выпялились на подчищенный пустой Рыковский большак, лежащий западнее Папинского, – по нему направились на деревню Рыково.
Видимо, усталость уже сказывалась и брала свое: идти по накатанному и расчищенному большаку было несравненно легче и спорчей, чем почти по целине; да притом с надеждой шли: авось из этих мест немецкие войска уже отхлынули…
Только подойдя поближе к присевшим крайним избам Рыково, беглецы поняли, что некоторым образом заблуждались, так как здесь увидели немецких патрулей. Делать было нечего, деться уже некуда, не скроешься: большак прямехонький – просматривался вдоль, с ходу не свернешь; потому и шествовали дальше, не сворачивая, как ни в чем не бывало. Авось выкрутимся, думали. Не в первый раз. Однако только что дошли до самых патрулей, как те мигом окружили их и сказали, что сейчас же к коменданту поведут. Это беглецам могло стоить дорого. Испугались все.
И тогда Наташа умоляюще спросила по-немецки (вовремя сообразила), можно ли назад им тогда вернуться.
– Selbstverstandlich! – Разумеется! Zurück! – С какой-то радостью солдаты, чем-то размягченные, согласились отпустить назад: видно, очень не хотелось им возиться с русскими сейчас, когда приятнее всего было стоять на солнце, подставляя лица под его палящие лучи небесные.
Обрадованные же тем, что снова на свободу вырвались, выселенцы, развернувшись, быстро-быстро дунули обратно, может быть, с полкилометра, а потом махнули в целик, в поле, подаваясь на восток, на далекую, видневшуюся на отшибе, деревушку. Она служила верным ориентиром.
Вдоль деревень, перелесков, огородов, строений еще белели нетронуто чистые сугробы, не изъезженные, как бывало раньше, лыжами и санками (теперь некому здесь было их изъезживать), и беженцы иногда погружались в них, сугробы эти, чуть ли не по пояс и ползали в них, порой под горестными взглядами одиноких женщин, и помогали выползти друг другу и также санки вытащить.
Опять валенки намокли, потяжелели, отчего опять, к несчастью, заломили ноги у Антона и у Саши.
То, как они шли, или ползали, проваливались в снег, Антону представлялось в какие-то моменты как бы в перевернутом состоянии: он и сам шел, полз и видел себя и всех как бы сверху, и потому порой местность с наваленным всюду снегом, почти непреодолимом для них теперь, казалась какой-то взгорбленной вдруг.
XXVII
– Мама, – спрашивал Славик, сидя на медленно, рывками, ползущих санках, – мы наш дом потиляли?
А и верно!
– Мы с тобой еще найдем его, сынок; найдем обязательно, мой котинька, ты только посиди еще на саночках немножко, – успокаивала раскраснело-запыхавшаяся Дуня, усиленно работая ногами и пробиваясь в снежных насыпях.
– Ну, ладно, поиси. А то очень я устал. Ох!
– Совсем, что ль, устал?
– Насовсем-совсем устал. – И ребенок глубоко вздохнул. – Слысись вот?
– Не говори, мой котинька. Устали все мы. Уже еле двигаемся.
– Что ж, лиха беда начало. – И вздохнула Анна на сестру: – Погоди, Дуняша: покраснелость у тебя… Ба, да ты никак отморозила щеку?!
– Ах, чтоб меня! Ну, лихорадка! – Дуня расцвела как маковка, однако. – Умудрилась при тепле-то… Точно: бесчувствительна щека.
– Ну, не знаю. У тебя же левая щека была в тени морозной, паром, что