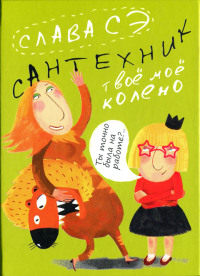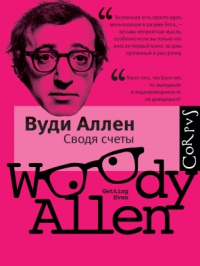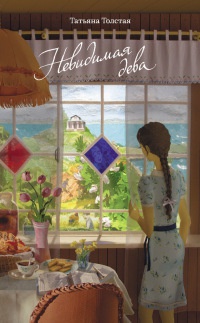От этих ее слов глаза Кобы зажглись джигитским куражом, и она поняла, что прошла Испытание.
И почувствовала себя легкой, как голубоватый дымок, складывающийся в нимб над головой довольного ею Сталина. И почему-то припомнилась песенка, донельзя глупая: «Крутится, вертится шарф голубой, крутится, вертится над головой…»
Много позже, в 1934-м, в кремлевском кинозале, грузная и совсем уже постаревшая, она слушала эту песенку в исполнении артиста с нарочито простоватым лицом и думала, что теперь звучит еще глупее: не «шарф голубой», а «шар голубой»[31]. И чего это ради вместо легкого шелкового шарфа (никогда у нее такого не было, не приличествовал бы он образу Фурии), который хулиганистый ветер закрутил над головой веселой барышни, возник какой-то дамоклов шар?..
И вспоминала та, о ком говорили: «Для своих – Землячка, для остальных – болячка», как была счастлива в октябре 18-го, прислонившись к Властелину и уверясь, наконец, что теперь-то уже никто не посмеет отнестись к ней с пренебрежением.
Но и представить себе не могла безлико одетая старушка, как гадлива будет память о ней, как вожделенно будет хотеться развеять над самой вонючей выгребной ямой кучку ее праха, вмурованную в кремлевскую стену.
Глава двенадцатая
Это были необычные сумерки – так темнеет на сцене, когда происходящее становится театром застывших фигур и прощающихся голосов; так темнеет в больничной палате, где каждый яркий день – это нежданное чудо, а каждая темная ночь кажется последней.
…Кун умчался, Волошин и Павел ушли, а оставшихся девятерых загнали обратно в учебную комнату.
По оживлению чекистов, предвкушающих долгожданную работенку, арестанты поняли, что конец совсем близок, однако пережитое во дворе кенасы странным образом их успокоило. Нет, они не примирились со смертью – разве можно с нею примириться? – но внутри, даже у мало что понимающего Абраши, даже у приземленных торговцев, крепло ощущение великой победы над собственным страхом; победы, после которой особенно остро хочется жить, однако уже не так горестно умирать.
И они переглядывались, улыбались друг другу по-братски… только Шебутнов почему-то избегал смотреть на Георгия.
Однако когда пинком открывший дверь Федька ткнул в его сторону маузером и провопил: «Ты! На допрос к товарищу Землячке!», подполковник, бросив брезгливо: «Не сметь мне тыкать!», молча пожал руки Комлеву и братьям Покровским; Бобовичу кивнул уважительно, как противнику достойному, Борохову и Измирли почти и не кивнул, зато неожиданно – пожалуй что и для самого себя – похлопал по плечу Абрашу.
А обратился именно к Бучневу:
– Я, Георгий Николаевич, очень неплохой контрразведчик.
– Понимаю, – спокойно отозвался тот.
– А если понимаете, то учтите: будете прокляты за свою доброту!
И вышел.
– Георгий Николаевич, о чем это он? – удивился старший Покровский.
– Понятия не имею, – пожал плечами Георгий, хотя прекрасно все понял.
И подумал: «Ничего, Риночка, зато все получилось, и Павлушка спасен, и корабль…»
А она улыбнулась, она была счастлива, она была с ним, – и он ощутил, как поднимается в нем волна необыкновенной силы, почти год назад бросившей его на арену Plaza de Toros.
Во вроде бы портовом, но удивительно размеренном Кадисе Бучнев стал знаменит после первого же дальнего заплыва. Когда он вышел на берег, кое-кто, глядя на штормящий залив, кричал «Оле!»; остальные крутили пальцем у виска жестом вполне интернациональным. Однако о безумном русском написала городская газетенка, и на следующий день темпераментные андалузцы останавливали его в порту одним и тем же вопросом: «Ты испытываешь терпение Господа?» – «Ничуть, – отвечал Георгий, – просто хочу быть достоин того дня, когда мы всех неправых своею правотою…». И любопытствующим становилось понятным все, кроме последнего слова, произносимого по-русски. Непереводимого, как пояснял гигант с непостижимо для испанцев зелеными глазами и усами, чересчур пышными даже для такого видного собою кабальеро-стивидора.
В этом слове, догадывались добрые католики и католички, кроется что-то этакое, однако коли русское, да еще непереводимое, то пусть. И с легчайшим намеком, с неприметным подмигиванием – всего только означенным желанием подмигнуть – Георгия стали называть стивидором Atebjom, не видя в том особого греха.
… – Вы, сеньор стивидор Atebjom, кричите уже несколько ночей кряду, да так громко, что будите весь дом, – ласково попеняла ему за утренним кофе хозяйка пансиона. – Вас преследуют кошмары? Или мучают боли?
– Отголоски! – сокрушенно ответил Георгий. – Всего лишь отголоски детского лунатизма. Надеюсь, вы не откажете мне в квартировании из-за такого пустяка?
– Иисус милосердный! – закрестилась сеньора, стреляя глазками то на распятие, то на впечатляющую фигуру жильца. – Лунатизм – это так страшно! Неужели вы, сеньор Atebjom, бродите, обуреваемый страстями, по всему дому? А я-то в это самое время сплю с незапертой дверью!..
– Не запирайте, сеньора, не запирайте ее и дальше! Насильник во мне никогда не просыпается. Исключительно крикун…
Диалог вышел похожим на те якобы испанские танцы, которые непременны в неиспанских постановках Лопе де Вега, хотя Георгию было не до сценических извивов. Несколько ночей кряду, впервые за почти четыре года тусклой жизни, в его сны приходила Риночка, бормотала что-то бессвязное о военном корабле, на котором может погибнуть Павлушка, каялась, что не сберегла Стешечку, но умоляла спасти сына.
После случившегося в годы войны он не всегда уже доверял трезвому разуму, а потому отправился к знаменитой местной гадалке. Разумеется, цыганке, и очень хотелось называть ее, в честь Пушкина, Земфирой, хотя была она Эрнестой-Шукар[32].
Не раскладывая карты, не разглядывая узоры кофейной гущи, хотя кофе пила непрестанно, цыганка заявила ничтоже сумняшеся:
– Что ж тут гадать? Отправляйся в то место России, к морю, где воюет сын твоей ночной гостьи. И спасай.
– Спасу?
– Да, если в следующее воскресенье попадешь в Бильбао.
– Зачем в Бильбао, когда гораздо ближе через Барселону? Да и языка басков я не знаю.
– Баски вполне понимают по-испански, особенно когда делают вид, что не понимают… И вообще, Atebjom, не забивай мне голову дурацкими вопросами! Видишь же, я растревожена твоими зелеными глазами, чертов скромник…
«Что за безмятежная страна, – подумал он, слегка завидуя. – Во всем – немного фламенко…»
Она словно услышала и рассердилась: