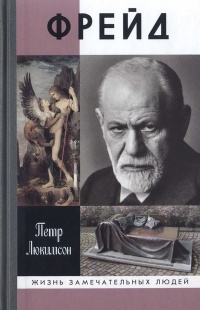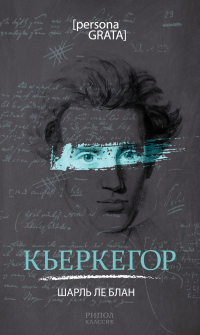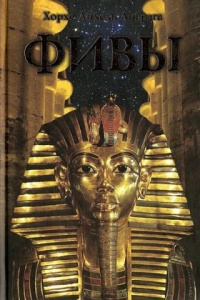В то же время как будто предлагаемый здесь выбор, на первый взгляд задействующий логику шибболета и соблазняющий возможностью проверки и отсева, на деле не имеет значения, поскольку можно отказаться от словоупотребления, но невозможно отказаться от означающего – последнее в любом случае сохраняет свои позиции даже в тех случаях, когда от его задействования уклоняются. Именно об этом говорит ситуация, в которой, например, Сергей Довлатов брезгливо замечает, что он «не творец» и тем более не «оригинален» – приложение к нему этих означающих действительно было бы неудачным выбором, что не значит, будто от них совершенно отказываются, более того, никаких других в ассортименте просто нет, что очевидно доказывает посвященная его литературным трудам страница в Википедии. Адресуя каким-либо сильным фигурам литературного или художественного мира критику или рассуждение и по этому случаю пытаясь соответствовать созданной их произведениями новой ситуации, субъект тем не менее продолжает возле соответствующих N-означающих располагаться, не имея возможности из заданного ими выбора выйти.
Неоспоримость существования этой проблемы по сравнению с ее масштабами доставляет поразительно мало неудобств – с ней мирятся так, как мирятся почти что с физиологическими ограничениями, притом что на уровне, где появляется необходимость в аннотации, критике, отзыве, – жанры, целиком и полностью базирующиеся на Bedeutungsintention, – последние незримо страдают от этого положения до такой степени, что в значительной степени оказываются инвалидизированы, почти обессмыслены. Их субъект не отдает себе отчет, до какой степени его высказывание занимает в долг у так и не совершившейся операции различания, всегда отложенной на неопределенное будущее. По этой причине все структуралисты, исключая разве что Альтюссера, твердо верившего в могущество правильно примененного метода, находились в состоянии крайней обеспокоенности по этому поводу, постоянно прибегая к многочисленным оговоркам, смягчениям или, напротив, усилениям собственных попыток выразиться там, где им волей-неволей приходилось к неразличенному элементу прибегать.
Все риторические и концептуальные усилия современности, начиная с Кьеркегора, сыгравшего ведущую роль в разжигании масштабной паники по поводу их вероятной бесплодности, направлены на то, чтобы во всех аналогичных ситуациях найти тот самый третий член, c(x), который позволил бы избежать как неудачи в выборе неразличенного означающего, так и потери действенности акта высказывания в связи с этим выбором. Неудивительно, что философия и психоанализ, как дисциплины наиболее необнадеженно смотрящие на перспективу бескровного совершения подобающей их аппарату процедуры различания, все чаще предпочитают для выражения результатов своей деятельности матему, а не концептуальный аппарат, основанный на так называемом естественном языке.
Со своей стороны, постоянно уделяя внимание фрейдовскому аппарату, Деррида в то же время продемонстрировал, что для того, чтобы субъект не знал, что именно он говорит, нет никакой нужды в существовании разрабатываемого психоанализом полноразмерного бессознательного со всей присущей ему объемной машинерией влечений. Достаточно того, что субъект со своей речью располагается на правой стороне формулы различания, чтобы каждое его высказывание, претендующее на деятельное вмешательство – обозначение ситуации или процесса, привлечение внимания к общественно значимым «проблемам», выдвижение политического требования и т. п., – демонстрировало промах, вызванный неосуществленностью различания.
Если открытие Деррида, заключающееся в том, что не существует никакого задействуемого в желании сказать означающего, кроме неразличенного, не было распознано в качестве большого «четвертого оскорбления», нанесенного тому, что субъект о себе и своем положении может мнить (по аналогии с упомянутыми Фрейдом уже состоявшимися тремя фундаментальными оскорблениями – коперниканским астрономическим, дарвиновским биологическим и открытием самого Фрейда, ущемляющим самолюбие т. н. сознания), то лишь по той причине, что в тот исторический момент, когда структурализм начал уступать место активизму современного образца на фоне продолжающей одновременно с ним действовать консервативной повестки, никто не был заинтересован в поддержке теории, подрывающей запал задействуемой с обеих сторон публичной речи. Действие «оскорбления», таким образом, оказалось отсрочено – частично по причине развернутой против Деррида кампании, выразившейся в различных формах интеллектуального бойкота, частично в силу наступления периода нового неотложного «желания-сказать», воплотившегося сегодня в облике намерения – например, со стороны субъектов, заново осознавших своеобразие и меру своей угнетенности или катастрофичность общей повестки в целом – «еще раз донести» положение дел до того, кто предположительно способен на это положение повлиять и в то же время параллельным жестом продемонстрировать общественности его абсолютную глухоту или же бессилие. Парадоксальность, создаваемая этой двойной интенцией, определяет своеобразие нынешнего совокупного акта высказывания[24].
Первертное и обсессивное использования означающего
Различание, таким образом, востребовано не для каких-либо уникальных, отмеченных редкостью состояний непереводимого на общезначимый язык и непередаваемого опыта, а, напротив, целит в ситуации, созданные явлениями более чем распространенными и обманчиво общепонятными, но не позволяющими полностью удовлетвориться в их отношении терминами правой стороны формулы.
При этом проблема с N-означающими заключается не в том, что они неспособны, как могло бы показаться, «передать» все своеобразие ситуации или опыта, а в том, что они, напротив, доносят это своеобразие чересчур полно – гораздо полнее, чем требовалось бы, – и тем самым девальвируют соответствующий их употреблению акт. Так, например, означающее «патриотизм» оказывается типичным N-означающим, поскольку никогда не ограничивается сугубо словарным определением (посредством которого ему сегодня нередко пытаются выписать индульгенцию), но указывает целиком на всю означающую цепочку, в которую входят неудобные для озвучивания последствия обустроенной на «патриотизме» политики. Точно так же, например, означающее «любовь» проблематично не потому, что любовь как таковая представляется явлением ненадежным и способным пасть перед такими испытаниями, как ежедневное безальтернативное присутствие отправлений другого тела, утомление от стереотипных привычек партнера и даже ненависть к нему, а потому, что в означающее «любовь» без исключения входят все перечисленные обстоятельства (что акт, связанный с хвалебным или сентиментальным использованием этого означающего, всегда склонен замалчивать).
Это любопытным образом переворачивает ситуацию, характерную для воззрений на возможности высказывания в эпоху романтизма и озвучивающей его претензии философской герменевтики, когда означающее наоборот воспринималось как обнаруживающее недомогание и слабость в области субъективно-щекотливых обстоятельств, связываемых, например, с непостижимостью «субъективного переживания», «озарения» и т. п. При этом парадоксальным для сегодняшнего восприятия образом публичная речь того времени – например, заявление лектора, памфлетиста или политика – виделась образцом почти что возмутительного «здоровья», ничем не ограниченных риторических и биополитических мощностей и возможностей. Именно этим поддерживалось существовавшее в тот период различие между режимом «мистической речи», которая, далеко не обязательно при этом посвященная чему-либо супранатуральному, функционировала как представляющая нечто неопределенно всеобщее для определенного круга «посвященных» лиц (например, кружка ценителей искусства или философии), и речи публичной, напротив, претендовавшей на выражение «конкретного», адресованного при этом некоей неопределенной общественности.