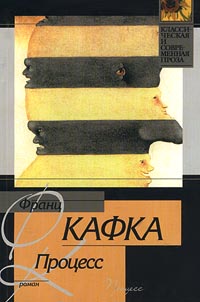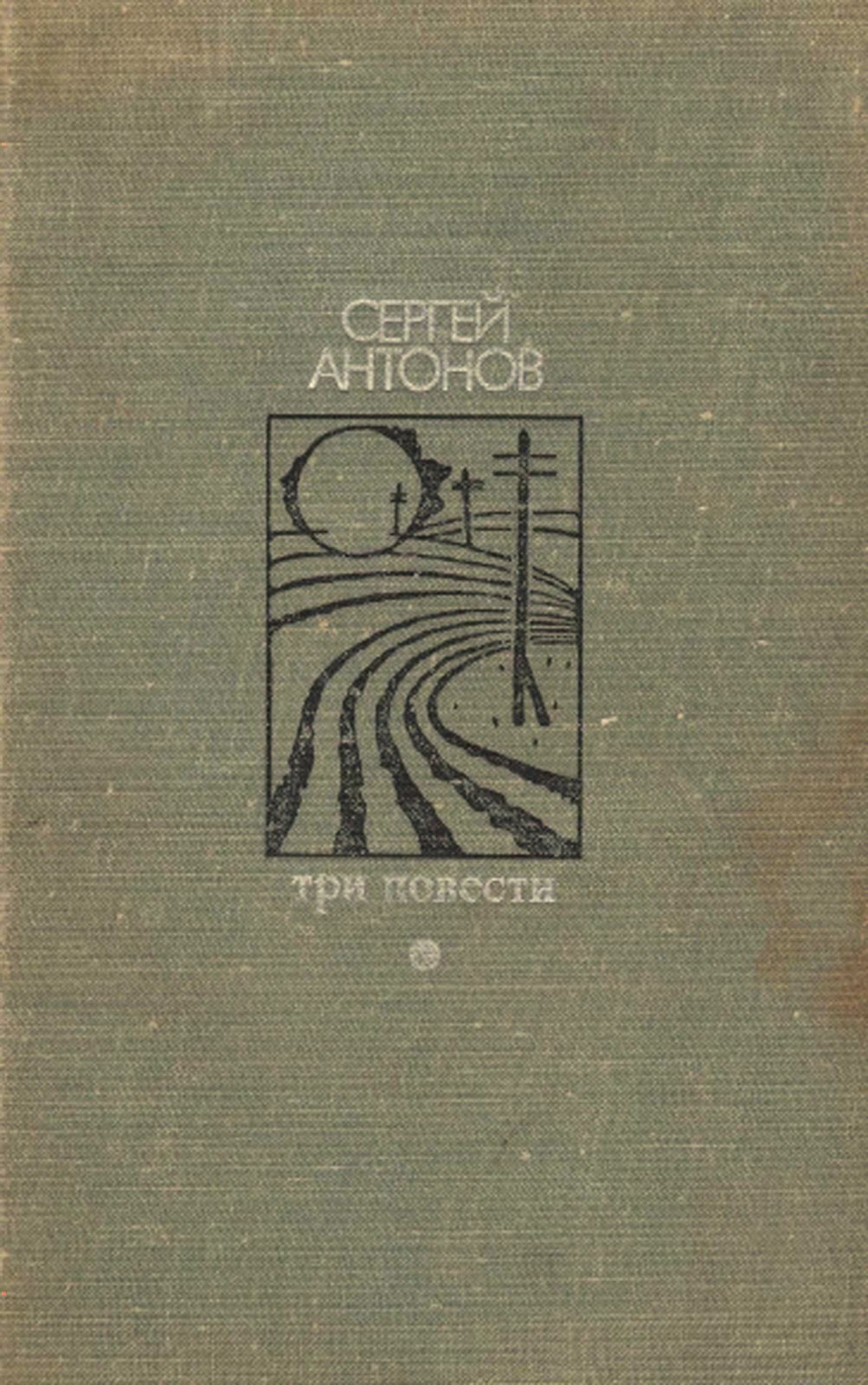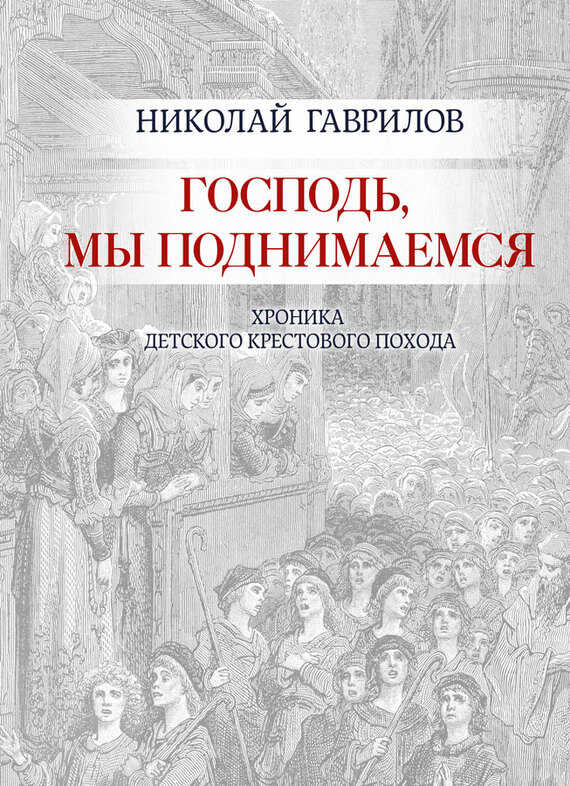звенели в этой предсмертной пустоте. Чувствуя облегчение на воздухе, готовый бежать из душивших его степ, Степан надвинул на лоб шапку и незаметно дошёл до Сенного базара, вышел на Большую Подвальную и остановился около решёток Зологоворотского сквера, где уснувший фонтан возвышался среди бассейна, полного мёртвых листьев и зелёной воды дождей.
Никого. И ему захотелось войти в сквер, блуждать тропинками, ступать ногой по шелестящей листве. Там, в углу, он порвал когда-то рассказ. И это воспоминание стало ему близким и дорогим.
Потом двинулся дальше в печальном спокойствии и с желанием заснуть. В тишине подошёл к Владимирскому собору. Странное волнение просыпалось в нём.
Институт был по соседству. Разве зайти? Со жгучим интересом, будто собираясь увидеть что-то запретное, вошёл он в широкие двери институтского подъезда. Открывались они туго, сжатые мощной пружиной, и от усилия воскресло воспоминание о прошлом.
Но попав в длинные коридоры, темноватые и душные после улицы, по которым двигались взад и вперёд, вверх и вниз по лестнице десятки фигур, слышался гомон голосов, омывая жилы дома, он почувствовал в душе холодок. Надвинув шапку ещё ниже, боясь быть узнанным, он подошёл к стеклянным дверям аудитории. Шла лекция. Он смотрел на скамьи, густо усеянные молодёжью, на лектора, хорошо знакомого, замечал то там, то сям движения внимания. И никакого волнения и боли в нём не проснулось, и мучившее его раскаяние заглохло от чувства отчуждённости.
Степан отошёл и осмотрелся глазами бурлака, пришедшего домой после бесконечных блужданий. И не нашёл ничего родного. Всё стало до того чужим и далёким от воспоминаний, что даже не стоило сожалений. Встретившись с пережитым, он понял, что вернуться к нему не может, что эти стены для него навсегда чужие и шум этот не позовёт к себе и не разбудит.
Вышел он с тем же самым тоскливым чувством, с каким впервые вступал на землю города; увидел запутанные узоры улиц, где можно бродить часами, блуждать до слёз и изнеможения по голым камням, которые обозначал горизонт зубчатыми чертами; ощутил те невидимые стены, которые стали пред ним на границе степей, и опустил обессиленный взгляд, желая примирения.
Вечером пришла Зоська. Он схватил её за руку и стал молча целовать.
Она удивилась:
— Что с тобой, божественный?
— Зоська, — сказал он, — ты единственная, у меня никого больше нет.
Она вздохнула:
— Ах, какой ты лгунишка!
— Никого, — продолжал он. — Ни родных, ни знакомых. Я один-одинёшенек в целом городе, и сегодня я себя чувствую так, будто я здесь первый день. Тяжело мне.
— Ему тяжело, — усмехнулась Зоська спокойно.
— Не смейся, — ответил он печально. — Ты не знаешь, что я думаю и как я мучаюсь.
— Он мучается.
Юноша вздохнул и отчаянно прошептал:
— Я больше не могу! Зачем? Разве это любовь? Мне опротивело кино. Нудно мне от этих картин. Я хочу быть возле тебя. Вдвоём, только вдвоём! Не бойся, — прибавил он горько, — я тебе ничего не сделаю. Мне не нужно этого, я и так тебя люблю. Ты же не знаешь меня, совсем не знаешь. Это глупость — вот так, как мы. Мне будет легче, если ты хоть на час будешь только со мною. Мне хочется сесть возле тебя и всё рассказать…
— А мне до этого какое дело?
— Не говори так, ты так не думаешь, — просил он. — Я не могу сейчас шутить. Дело серьёзное — понимаешь? Серьёзное! Зоська, придумай что-нибудь, потому что я ничего не могу придумать. Ну, быстрей!
Зоська задумалась. Потом воскликнула:
— Придумала!
— Говори.
Она кратко изложила свой хитрый план. У неё есть подруга, которая служит в Церабкоопе. Комната пуста до четырёх часов. Понятно? Допустим, она хочет готовиться к испытаниям в вуз, а дома негде заниматься с репетитором.
— Зоська, — воскликнул он увлечённо, — ты гений! Так бы зацеловал тебя!
— Правда? — Она таинственно добавила: — Идём на Шевченковский, там темно, и мы поцелуемся.
Домой он пришёл совсем спокойный. Зоськин план ему ужасно нравился. В дневных встречах с девушкой, такой любимой и дорогой, встречах тайных, где-то в чужой комнате, он ощущал сугубо городскую романтику. Мысли о них льстили его самолюбию и пели в душе, как сладкая песнь.
В такие минуты душевного затишья у него, как хорошего хозяина, появлялась потребность убрать свою комнату, вынести сор, пересмотреть бельё. Малейший беспорядок нервировал его. Закончив уборку, Степан сложил книги ровными стопками, вытер грязь, застлал стол белой бумагой и сел отдыхать от работы.
И думал: в молодости естественны мечты о славе, хотя из тысячи достигает славы один. Если бы юноше сейчас показать его дальнейшую судьбу, он бы перестал тосковать, всё послал бы к чертям и пошёл бы в бродяги. Выходит, что обманы нужны!
Он отдыхал и тешился мудростью своих размышлений. Надо жить - как все живут. Простой, обычной жизнью. Завести знакомых, ходить в гости, развлекаться, читать газеты и переводные романы. Что ещё? В конце концов он устроился лучше других. Лекции дают ему кусок хлеба. Украинизация будет продолжаться ещё года два-три, потом он поступит на службу. Он будет учительствовать тут в городе, а это сделать легче всего, нужно только углублять знание языка, становиться настоящим спецом. Он курил и в тучах дыма видел свою спокойную будущность.
VI.
Через два дня Степан впервые пошёл на дневное свидание с Зоськой. Войдя в небольшую комнату, наполненную специфическим запахом женщины—пудры и одеколона, он невольно заволновался. Но вдохнув этот хмельной воздух, почувствовал себя лёгким и бодрым. Быстро оглядев комнату, он увидел и Зоську, фигура которой исчезла за газетой. Она делала вид, будто читает и не слышит его шагов. Только две ножки, обутые в тонкие туфельки, свисали от колен вниз из-под края тёмного платья.
— Панна Зося, — молвил он важным басом, — пожалуйте заниматься.
Она молчала. Тогда Степан вырвал из рук газету.
— Осторожней! — воскликнула она.
Он на мгновенье остановился, увидев её в одном платье, без шляпы и пальто.
— Чего ты смотришь? — спросила она. — Где же книжки?
Он опустился к её ногам, обвив ей колени.
— Зоська… это ты?.. — шептал он. — Зоська, ты моя?.. Немного погодя, Зоська говорила печально:
— Ты быстро просветил меня, божественный.
Он был счастлив. Хотелось шутить.
— Да что же тут учить? — ответил он.
— Ты испортил меня, —