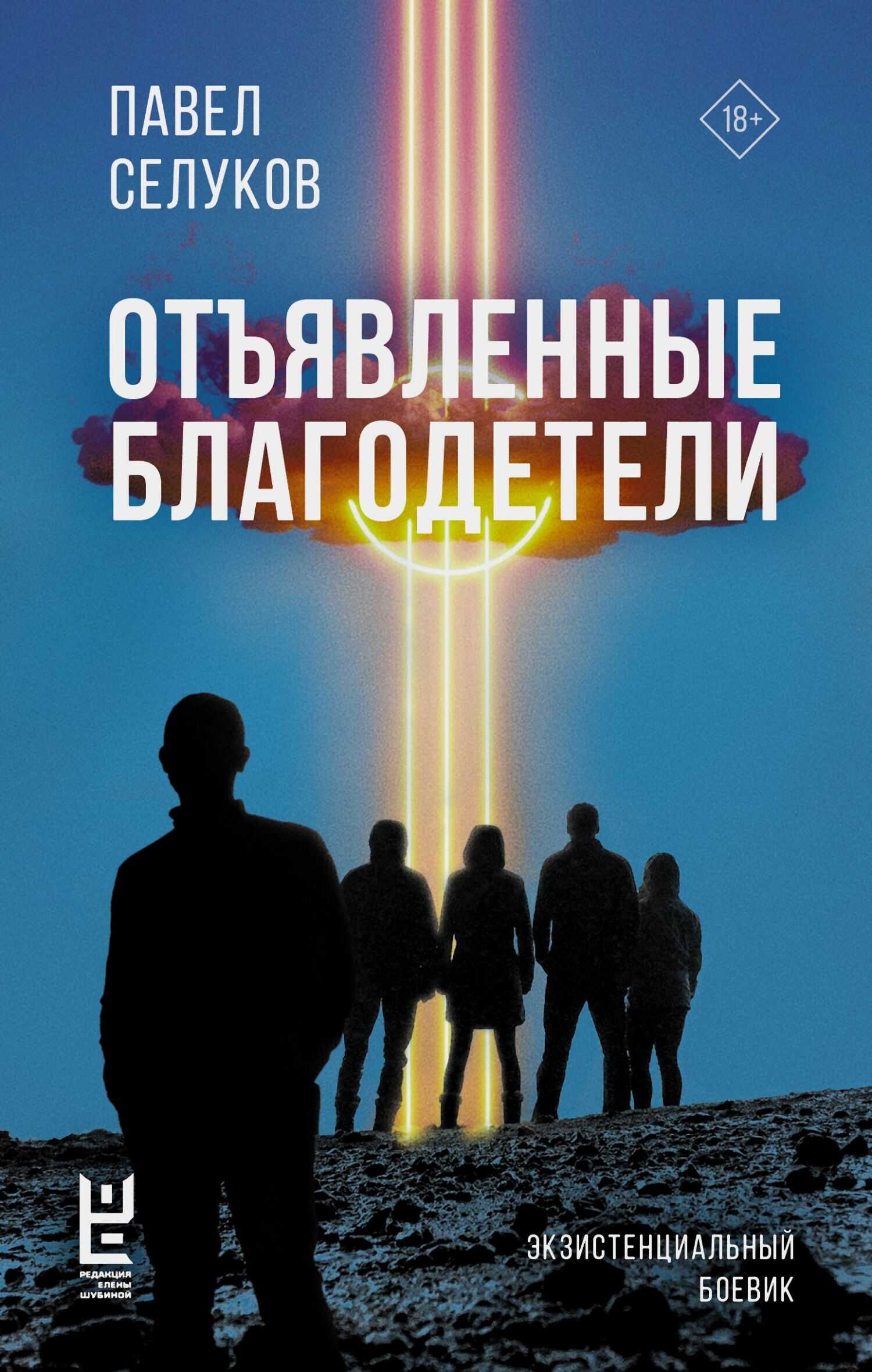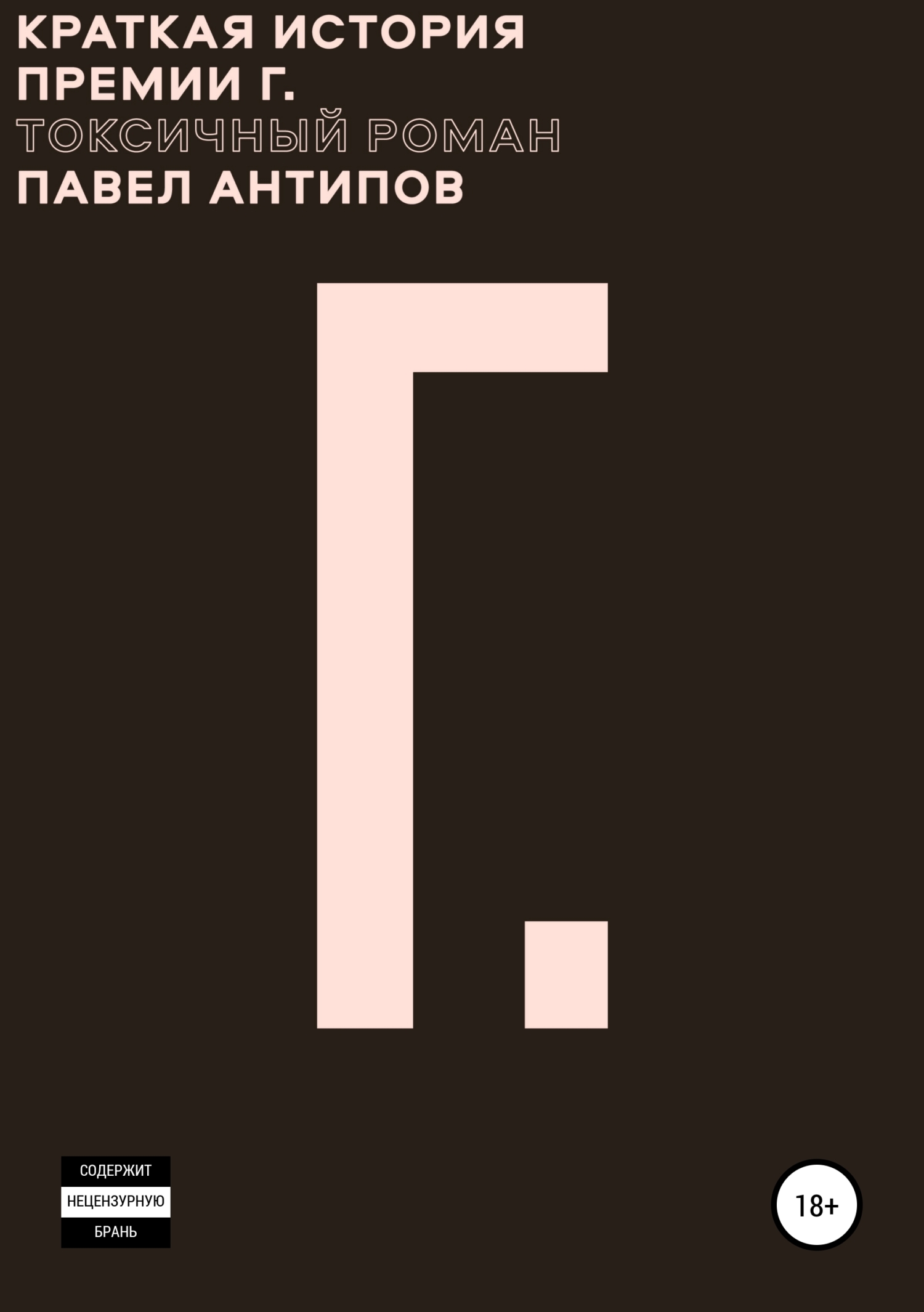class="p">Сундук-кундук-пундук. — пробормотал Ортен- бургбдт, что в последние месяцы всегда ткалось вокруг каждого упоминания Жукова. Не заклинание, но некий мем- адаб, неизбежная ассоциация, требующая ритуального произношения вслух, пусть и бормочущего, вполголоса, так, шепотком, чуть шевеля пухлыми губами, чуть пришлёпывая липкими губами, чуть дрогнув трусливыми бесформенными губами. — И что же, про Двадцать Восемь Панфиловцев и Политрука тоже спрашивать? — сказал Ёжиков, следя за пиздецометром. Как всегда, стрелка икнула при упоминании Числа; после Политрука её качнуло, и уровень пиздеца поднялся до отметки «Лёгкий пиздец». Ортенбургбдт заметил желание Ёжикова спровоцировать пиздецометр. Тем временем дождь за окном перешёл в мокрый снег, а за окном пролетела моль.
Обязательно. Продумай чёткую, исчерпывающую схему, — выговорил без запинки Ортенбургбдт, — чтобы всех состояний; и сравни, как он скажет, что совпало, что нет. Одна херня. Он любит ордена. Очень любит. То есть на себя нацепит сверху, снаружи, сколько сможет. Не представляешь даже, сколько он сможет. — Ортенбургбдт посмотрел, что называется, выразительно и долго, как корова, на Ёжикова. — Это не всё. Он же умеет себя и так, и так вывернуть. В общем, будет в себя запихивать.
Какой пиздец. Жрать их, что ли?
Не только. — Ортенбургбдт опять хотел-было выдать значительный взгляд, но отчего-то вспомнил слово «Дялгзв» у Трифонова, вздрогнул, сознал боль в сердце или где-то там, во всяком случае, в груди, осёкся и наполовину поднятый свой овцый фишкопуч отвёл в сторону, где в полированной дверце или просто бочине шкафа отразилось обратное превращение уличного фонового снега в неровный, холодный, бессмысленный дождь. — Не только этим ртом. У него ещё на всём теле рты тоже, откроет, и. Может и в разрез на теле. Потом, у него в полифонических колбах, кроме нормальных орденов, есть ещё поменьше. поменьше. поменьше. — Ортенбургбдт, повторяя, как гипнотизёр- дилетант, слово «поменьше», выпростал руку, сжал кулак, раскрыл два пальца, и с каждым повторением слова «поменьше» 1) уменьшал расстояние между кончиками большого и указательного пальцев 2) поворачивал руку по часовой стрелке, как если бы выворачивал ухо или открывал дверь ключом, но 3) ещё сгибал короткими рывками руку в локте, приближая воображаемое «поменьше» между пальцами всё ближе к лицу, к тому же фокусируя оставшийся вполне ов- цым фишкопуч на сокращающемся отрезке условной пустоты ордена 4) говорил всё более тонким и высоким голосом, приближаясь к фальцету или писку, что звучало ёрнически, нелепо 5) чуть наклонялся вперёд. Моль пролетела перед лицом Ёжикова, он сделал резкое движение рукой, будто ловит моль. Вдруг оба сознали, что делают странные жесты. Возникла неловкая пауза.
— Насколько меньше? — сказал Ёжиков ещё до того, как пауза закончилась. Ортенбургбдт подождал, пока не закончилась пауза, досадуя на нечуткий Ёжиков дух. Он ответил на вопрос Ёжикова. Ёжиков вышел из кабинета начальника и присел на диван в фойе, обдумывая услышанное. Значит, Жуков перед прошлым интервью запихивал себе ордена в жопу, жрал их, засовывал в порезы, потом, размешав маленькие орденки в молоке, пил его столько, что Таррару хватило бы запить обед Двадцати Восьми Панфиловцев, потом ещё ширялся мутной взвесью, и в конце концов лопнул. Не взорвался, конечно, обдав Джазова брызгами и ошмётками (Ёжиков захихикал), даже не развалился на куски, но лопнул, медленно треснул, может быть, это даже страшнее? Во всяком случае, взорвался — страшно, да, но и смешно. А если с глухим, едва различимым, нет, таким, негромким, неявным, но вполне себе различимым, даже и ощутимым, тяжёлым, и, главное, необычным, ни на что непохожим, неожиданным и не сразу который распознаешь — ставящим в тупик, вопросительным звуком, со сдавленным звуком — весь сдвинулся, повернулся — раскрылся, и вывалилось изнутри — что? Плавник? Акулья печень? Жёваная магнитофонная плёнка? Рак?.. И вот сжимая диктофон. Два посеребрённых микрофона торчали из него, улавливая ритмы несуществующей действительности.
Раскинула карты, нагадала несчастье — смерть — в семье.
Когда вы поняли, что ХТС — это Волк-машина?
Сегодня. Сегодня рано утром в душе. Я каждое утро принимаю душ. Контрастный. Бодрит. И зарядку делаю. У меня, вот, гантели. О чём мы говорили?
Вы написали, что Разделение.
Да, но я не имею Волк-машину! В виду. Я писал о разделении и рекомбинации в Сундуке, но я мыслил с акцентом на перестановку, накопление одних комбинаций и вымывание других, я имел в виду, что части совершенно разделены, а не что некое целое делится Сундуком на части. Оно и не делится; Сундук, он имеет дело уже с условными элементами в их первоначальных ооотноошах.
Простите. В их перво. в чём?! — не верил Ёжиков ушам.
Помните полифоническую поговорку времён Двадцать Третьих чтений? Сколько вам было лет, когда. не помните?..
Какую?
Ооотнооши котов и лыккуропагжлпов птючковидных малоизучены. — Жуков закрыл глаза, застыл, будто укладывая что-то внутри себя. Затем открыл снова. Каждая из его седых ресниц была увешана, как веточка ёлки, пятью или шестью микроскопическими орденами. Ёжиков подумал, что могли чувствовать живущие в корнях ресниц паразитические черви
Сундук — не более общий случай, а более творческий. Он поможет выплыть сокрытым звукам жизни. А Волк- машина — аналогично — для текстов: создаёт новые смыслы текстам. Машина интерпретации. Машина обретения смысла в интерпретации.
Волк-машина, можно сказать, правит пургой.
Нет, она для этого недостаточно безумна, хаотична, она не производит ужас. Кроме того. это. как если. сказать, что некая виртуальная машина экономики правит жбы- хом. Только подобие одержимой личности может править жбыхом или пургой. Хотя, конечно. Не стоит переоценивать. Если вы не видите пурги. Не видишь пурги?
Не вижу.
А я — вижу, — сказал Жуков. — Я понял, что дух у них один и тот же, и зря я так искал Хорошо Темперированный Сундук. В этом мире по-настоящему интересна не перестановка. Не это. перераспределение. а творчество. Новое. Разрыв.
А вы способны на. — выдохнул Ёжиков.
Нет, когда приходит смерть, ты уж умри, как человек, — сказал Жуков.
Что? — удивился Ёжиков.
Трус! Надо было застрелиться, — сказал Жуков.
Ёжиков вернулся к начальству. Он заметил, что Женя что-
то искала в предбаннике. Она вышерстила жёлтые, истлевшие бумаги на столе, выдвинула откуда-то ящик (звук этот вызвал в уме Ёжикова яркий образ пустыни: ветер, песок, холодное в ярости солнце), заглянула, задвинула. Подождав мгновение, смерив Ёжикова взглядом, Женя опять выдвинула тот же самый ящик, и на этот раз из него достала книгу в сером переплёте.
Нашлась? — сказал Ёжиков.
Вы к Алексею Иванычу? — сказала Женя.