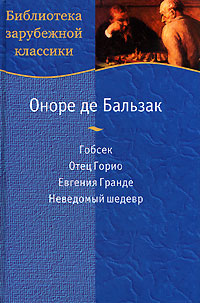сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». «Ибо, — возвещает «Второе послание к римлянам», — не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут»… Словом: «Нет героя в глазах лакея, нет божества для служителя храма».
Во имя веры было учинено много зла, Себастиан; во все времена под ее сияющей ризой скрадывали черные язвы души своей: скудоумие, слабоволие, жестокость, честолюбие, корысть, развращенность, безумство… Но сие не должно отвращать от веры qua talis («как таковой»), — ведь и мудрость не непогрешима, ведь и мудрости свойственны заблуждения, поскольку и мудрость, не будучи посильной все доказать, вынуждена немалое постулировать, а соответственно, полагаться на веру, без коей мудрость в принципе нежизнеспособна (посему же справедливо будет заключить, что философия суть не что иное, как синтез интеллекта и веры, ибо любить мудрость значит верить в нее); между тем никто, сколь бы беспутен он ни был, никогда всерьез не воспримет, что мудрость — не благо, — против сего воззрения восстает самая человечность, каковая причастна всякому разумеющему индивидууму, пусть, увы, далеко не у всякого подобающе развита… Вера негативна рассудку, но не в том смысле, что они отрицают друг друга (как день и ночь), а напротив, в том, что они взаимоутверждаются (как свет и тень), ибо субстрат у них общий — сознание; так, скажем, воде конститутивны плотность и текучесть, а воздуху — прозрачность и осязаемость, что, собственно, и определяет субстанциональную форму сих материй. Вера есть то, что придает живость идеям, заряжает энергией, одухотворяет их, а посему она способна как воплощать в реальность химеры, так и воодушевлять на фантастические открытия. Необходимо верить в то, что знаешь, и знать то, во что веришь; в противном случае ни подлинное знание, ни истинная вера не возможны… Люди же, как правило, доверяют своим мнениям на том безосновательном основании, что не имеют повода в них усомниться, поскольку, раз приняв оные, — можно сказать наобум (множество в пору ментальной незрелости), — никогда должным образом их не исследовали, почитая чем-то само собой разумеющимся (как бы всосанным с материнским молоком). «На деле же это значит, — подмечает Джон Локк, — что они составили верное суждение лишь потому, что никогда не составляли никакого суждения». И, поставленные перед «фактом», не оглядываются в поисках истины, — как если бы математики пользовались аксиомами, не удосуживаясь их верифицировать. Словом, рассуждают так же, как переваривают пищу, — пассивно, не задумываясь… Вообще говоря, люди принимают те или иные положения на веру чаще всего по двум предусловиям: либо вовсе не имея личного мнения по данному вопросу, либо опасаясь (скорее подсознательно, нежели сознательно) как бы обстоятельное рассмотрение не оказалось неблагоприятным для уже устоявшегося у них мнения, какового им выгодно держаться (ибо заблуждения, как это частенько бывает, слишком дорого обошлись тому, кто их приобрел, чтобы легко с ними расстаться, признавши собственную некомпетентность), или, наконец (что относится сюда же), люди свято цепляются за свои мнения попросту в силу привычки — сей инстинктивной боязни перемен… Нечего, стало быть, удивляться, что в людских головах прочно засело противопоставление веры и рассудка, дух расщепляющее, тогда как, согласно человеческой природе, одному надлежит подкреплять другое, — но если вдруг они впадут в разлад, высшей инстанцией и верховным судьей обязан быть рассудок, а не вера, хотя нередко ввериться последней и легче, и приятнее, и, может показаться, благонадежнее. Ergo, так же как человеку не подобает, по настоянию Пифагора, ходить проторенными тропами, — то есть бездумно следовать мнениям большинства, — так же не подобает беспечно держаться веры большинства. Но вовсе отрекаться от веры, гасить в сердце своем сей животворный огонь — нечеловечно, смертоносно. «Нет, не нужно руководиться увещеваниями «человеку разуметь человеческое» и «смертному — смертное»; наоборот, насколько возможно, надо возвышаться до бессмертия и делать все ради жизни, соответствующей наивысшему в самом себе…» — заповедовал Аристотель… Вера — великая сила наравне с разумением, заложенная в нашу натуру Богом Природы. Разум и Вера — две оси, движущие процесс самосознания, — характеризуют самое естество человека, выкристаллизовывают его душу — его личность; человек без веры — неполноценный человек, равно как человек без разумения. Ибо без веры, — а превыше всего веры в свой Гений, — человек ничтожен (в нем не может быть ни глубокой рассудительности, ни высокой нравственности, ни воли, ни любви, — он не может быть мудр — он не может быть благ). Но коли вера не сообразуется с разумением и, следственно, затмевает его, — тому аналогично, как луна затмевает солнце, — человек не только ничтожен, но и опасен — как для себя самое, так и для окружающих, — точно слепец с зажженным факелом в деснице. Такая вера — безрассудная и стихийная — неизбежно обрастает суевериями — чудовищнейшими из исчадий невежества («сна разума»), уподобляясь многоликой ядоносной гидре95. Кроме того, таковая вера (имя ей — недомыслие), поскольку тяготеет к предубежденному мнению, а не беспристрастному знанию, — шатка и непостоянна, как всякая мнимость; люди, всецело на нее уповающие, сходны охваченным лихорадкой, коя то унимается, то пробирает с новой силой, — и в своем бреду неуемном не ведают, что творят.
«Живет и питает себя зло потаенно, меж тем как врачующих рук не желает пастырь к язвам сам приложить да сидит, на богов уповая!»
Только мечу просвещения под силу отсекать главы гидры заблуждений, и только огню разума дано прижигать их, дабы оные вновь не вырастали. Лишь осмысленные убеждения — поводья души, лишь мудрые принципы — нравственные императивы, служащие надежными стременами добродетели, способны должным образом контролировать веру и направлять ее во благо, не позволяя срывать удила рассудка да шало волочь его за собой, сродни одичалому мустангу, сбросившему укротителя. И единственно подобающая молитва, обращенная к Вышней Справедливости, в каковую искони верует человек, созерцая незыблемый Вселенский Порядок, отнюдь, к прискорбию нашему, не усвоенный земнородными, — это та краткая молитва, которая в трудную минуту была на устах у много на своем веку превозмогшего флорентийского мастера Бенвенуто Челлини: «Господи, помоги моей правоте, потому что она со мною, и потому что я сам себе помогаю», — рек он, утверждаясь духом, исполненным веры в себя, да не помрачаясь умом, вынашивающим спасительные суждения. Согласно сему, справедливо сказано у Ксенофонта: «Не засеявший поле, не имеет право молить богов о богатом урожае». О том же свидетельствует и Эпихарм в следующем стихе: «Боги продают все блага людям только за труды». «Афине молись, да сам шевелись», — напутствует древнеэллинская пословица. Но, — ничего удивительного, — зачастую молитва есть только-то инертная увертка, долженствующая снять с совести ответственность за