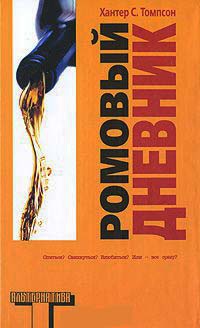По мере углубления в лабиринты города характер дорожного движения снова изменился — оно стало похожим на процессию, особенно когда мы выехали на улицу, ведущую через рынок к реке. Бешеная активность на дороге вскоре сровнялась с хаосом, царившим на обочинах, а потом и вовсе уступила ему лидерство, — крики, гомон и безумные нагромождения суматошной, не замирающей ни на секунду торговли, покупки и продажи, погрузки и разгрузки. Тем временем автомобильная фаза путешествия явно подходила к концу. Все вокруг было чем-то завалено. Всего было слишком много. Все было громким и вызывающе ярким и изо всех сил старалось стать еще громче и ярче, чтобы затмить соседей. Все истошно кричало и вопило о себе. Вещей было так много, и все они так бросались в глаза своей яркостью и громкостью, что было совершенно не понять, что из чего сделано и для чего предназначено. Это была яркость, шумность и крикливость в своем тотальном выражении.
Напор людей, машин и животных в конце концов достал даже Санджая. Наш крепкий и накачанный «амбассадор» мог ехать дальше до скончания века, в том не было никаких сомнений. Для этого ему нужна была только дорога, но дорога, увы, кончилась. То есть она не то чтобы кончилась, но просто перестала быть дорогой. Двигаться дальше было нельзя. Когда я открыл дверь и протиснулся наружу, в уши сразу же ударил дикий шум. Джамалу полагалось меня сопровождать, но я настоял на том, что прекрасно справлюсь без него, и предложил подождать меня тут. После чего влился в поток людей, текущий к реке.
После клаустрофобии улиц зрелище могучего Ганга и раскинувшегося над противоположным берегом неба стало окном в другой, более просторный мир. По обеим сторонам ступеней, ведших к Дашашвамедх-гхату[122], теснились нищие, размахивавшие металлическими чашами — пустыми, не считая горстки риса и редких монеток. Этим еще повезло — у некоторых не было даже чаш. Впрочем, этим тоже повезло — у некоторых не было даже рук.
За пределами всей этой толкотни словно бы через небольшой океан открывался вид на другой континент, выжженный и пустынный. Словно я прибыл на первый в мировой истории морской курорт, сильно нуждавшийся в ремонте, но не ставший от этого менее популярным. Что бы ни происходило в прошлом в Варанаси, до руин ему было далеко — и всегда будет далеко. Даже если все здания в нем рухнут, он не придет в упадок. Небо над ним было празднично-синего цвета. Флаги хлопали и реяли на ветру. Все полнилось каким-то явственным, хоть и непонятным смыслом, я ясно это ощущал. Повсюду было буйство красок, которые могли заткнуть за пояс радугу. Леденцово-розовый храм уткнулся шпилем в небо, как ракета, чей запуск был отложен на века, но все еще не отменен и даже предрекался в скором будущем брахманами, посиживавшими в теплой тени грибообразных зонтиков. Чем они были заняты? Открывали древнюю мудрость своим ученикам или просто болтали с друзьями о крикете (Индия только что проиграла в отборочном турнире Южной Африке)? Были они просветленными или вообще не по этой части? Или и то, и другое сразу? Даже фальшивые святые (а Джамал предупредил меня, что многие из них насквозь фальшивы) все равно были подлинными. И все кругом были ужасно дружелюбны. Я стоял тут всего минуту, а кто-то уже пытался пожать мне руку. Впору почувствовать себя знаменитостью или королевской особой, прибывшей с официальным визитом. Правда, как выяснилось, здороваться со мной никто не собирался. Этот тип пытался продемонстрировать мне какой-то вид массажа: он мял мою руку и никак не отдавал ее обратно. Все это время какая-то женщина совала мне под нос свою чашу для подаяния, чтобы я мог понюхать рисинки на дне. Мальчишка тянул меня на лодочную прогулку. Другой же пытался отбить меня у него и зазвать на свою лодку. Я был тут самым высоким, возвышался над толпой, словно радиовышка, транслируя на всю округу, что я только что прибыл в Варанаси, вообще впервые в Индии и меня можно брать голыми руками. Я был легкой добычей, простаком, ясной мишенью — хочешь на лодке катай, хочешь делай массаж. Я выдернул свою руку и пошел дальше, стараясь выглядеть так, словно я провел тут не одну неделю, насмотрелся на прокаженных и вовсе не спешил увидеть, как сжигают трупы на Маникарника-гхате.
Но именно туда я и спешил — увидеть, как сжигают трупы. (Оказавшись в новом месте, не лишне заняться тем, что тут делают все.) Я уже видел впереди костры. Отсюда они казались совсем небольшими, как на празднике или вечеринке, которая еще не закончилась, хотя пик веселья давно миновал. Я записал в своем блокноте: «Конец дня. Костры в свете солнца у реки. Медленно стелется дым. Люди плывут через дым, через солнечный свет. За всем этим — шпили храмов, один из которых опасно накренен».
Вся эта процедура на Маникарнике — дело сильно трудоемкое, как на фотографиях Сальгадо[123], где крестьяне копошатся на склоне горы — в данном случае горы настолько выработанной, что она уже перестала быть горой. Тут были огромные штабеля дров, выше некоторых домов, постоянно разбираемые и восполняемые, питающие неутолимую потребность в огне. К гхатам подходили баржи, груженные такими огромными бревнами, что за раз можно было поднять лишь одно или два; поленья стаскивали на берег, тяжелые и могучие, безвольно лежащие на плечах носильщиков, как забитые на охоте звери. Дерево складировали, рубили, взвешивали и тащили обратно к воде, затем снова взвешивали. Для каждой кремации требовалась тонна дров. Тонна — в смысле того, что очень много, а не как точная мера веса в тысячу килограммов. Дым пятнал небо, коптя сгрудившиеся вокруг гхатов храмы и дома. Коровы жевали мокрые ноготки, роясь в пепле, покрывавшем глинистый речной берег. Вода была темной, со взвесью сажи, словно тоже сожженной. Вокруг бродили местные собаки. Горело сразу с полдюжины костров, за которыми присматривали местные работники. Вокруг стояли люди и разговаривали — и все это время поленья таскали туда и обратно, а в огонь тыкали ветками. Как на заре промышленной революции — никакого организованного производства, зато избыток рабочей силы, и все это на службе у смерти.
Джамал предупредил меня, что фотографировать тут нельзя, но и в целом этикет этого места был мне не ясен: можно ли подходить к кострам, а если да, то как близко? Слева возвышался большой, сильно закопченный дом, с балкона которого взирала на происходящее кучка туристов. Стоило мне взглянуть на них, как мальчишка в линялой футболке с эмблемой «Планеты Голливуд» уже дергал меня за рукав, предлагая туда провести. Как только ты демонстрируешь в Индии хотя бы намек на заинтересованность в том, чтобы что-то увидеть, купить или сделать, кто-нибудь непременно прочтет эти знаки и приступит к воплощению этого желания — ибо что есть интерес, как не желание, которое, в свою очередь, формирует спрос, — в жизнь с целью получения финансовой выгоды. Об этом я узнал позже. Сейчас же мне сказали: «Пошли», — и я пошел.
— Снимать нельзя. Камеры нельзя.
— У меня нет камеры, — заверил я его, давая понять, что я не новичок, не только что с лодки и уж никак не японец. Но все же последовал за мальчишкой во вьетнамках по потемневшим ступеням в пустую комнату с балконом, на котором я видел туристов, которые, однако, успели куда-то подеваться.