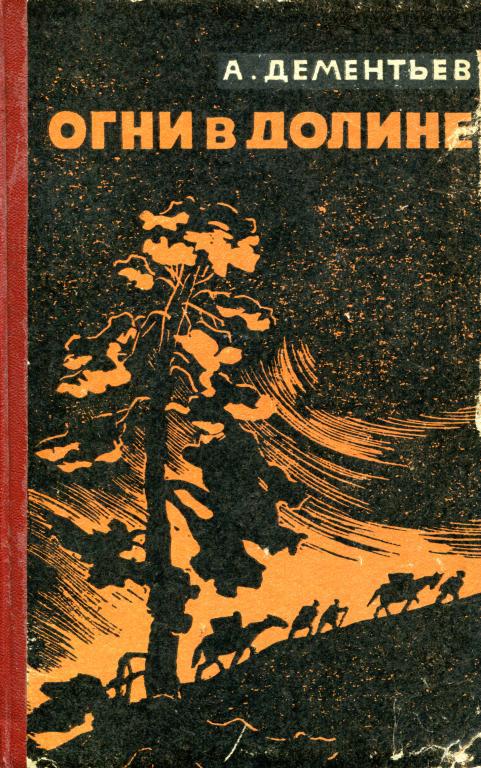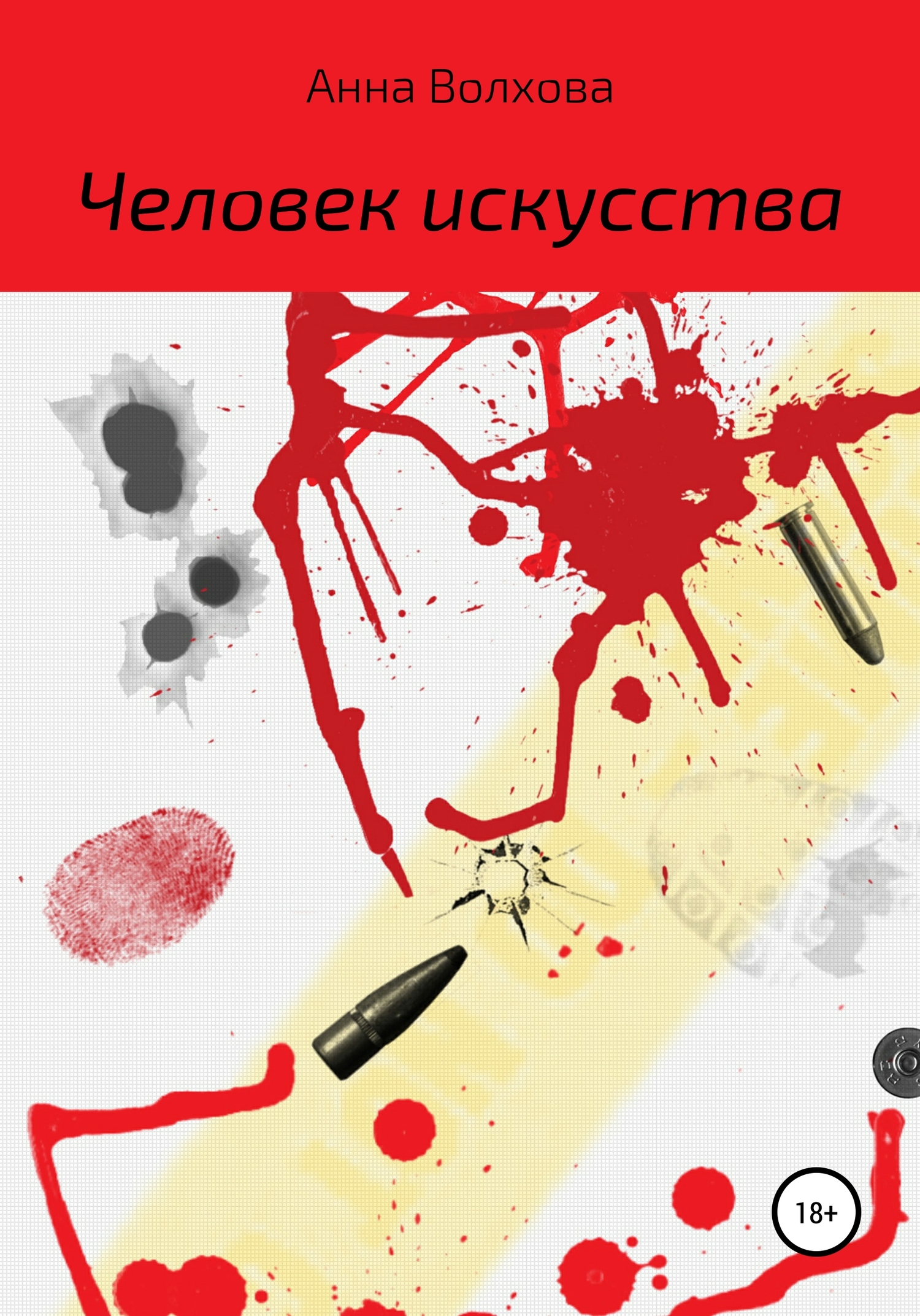ласково и улыбалась ей. А Б.Б. в темных очках и с закрытыми глазами глядел на солнце и тихими монотонными пассажами ломал сестру.
С квартирой сложнее, говорил он, хотя и про дачу она только что в пятнадцатый раз сказала «нет». Пока что ее можно только сдавать. Иностранной фирме, это перспективно. Полностью переселиться на дачу. Мебель, серебро, люстры, вазы, картину (он оскалил зубы) со все глубже тонущей лодкой, естественно, включить в оценку дачного добра. И надо как следует обдумать, может, даже обмозговать (еще оскал), идею раздела имущества. Ты же вправе претендовать на шестую часть, систер. И мы на этом, систер, сыграем.
Вечером, когда мать входила в его комнату проститься перед сном, он говорил про Нику: «Приехала со своим носом». Нос у нее был небольшой, формы правильной, мать шепотом восклицала: «Ну как ты можешь так говорить!» — а он, подставляя под поцелуй щеку и улыбаясь, подтверждал: «Систер с носом». Ника в Америке сделалась церковной, в выражении лица у нее появилась постоянная снисходительная мягкость, такое же мягкое всепонимание в едва заметно, но тоже постоянно улыбающихся глазах, это, возможно, привело к соответствующей коррекции нос, возможно, он напрягся чуть-чуть, капельку заострился — и, вероятно, что-то такое мог иметь в виду Б.Б.
Церковность, снисходительность и умиленность Ники были еще свежими, как недавняя побелка стены, еще не наведенными на резкость, не окончательно освоенными, то вдруг отдавали запанибратством с силами небесными, не говоря уж со смиренными служителями Божиими, а то елейностью, и поэтому полного доверия не вызывали. Но это то, что она на себе привезла, и выглядело оно так без того, что осталось дома. Продукты, которые она покупала в супермаркете и волокла каким-то трясущимся старухам, а они говорили, что мало, поздно и не то; мотание по врачам с приехавшим из Новокузнецка лечиться калекой; заполнение аппликаций кому-то на пособие по бедности, кому-то на медицинскую страховку по старости, и вообще постоянное пребывание среди этих постоянно поступающих из России хромых, слепых, чающих движения воды и незнающих по-английски, и все это на машине с тугим рулем, потому что с легким на собственное пособие по безработице не купишь, и все это в квартирке в «проджекте», через стенку от филиппинских любителей галлюцинаций и ножевых выпадов без предупреждения и подготовки, и лишь вечером несколько страниц Симеона Нового Богослова и в воскресенье служба в похожем на сборный финский домик храме за двадцать миль от дома — этого ни Б.Б., ни Мироша Павлов, хранивший память о той Нике, в которую был влюблен, ни Найман, к этому времени уже почти автоматически бравший порывы духа на пробу кислотно-щелочной настороженности, видеть не могли.
Они тогда пригласили в гости Наймана (меня — нет: болезненное напоминание о том, что лучше забыть), и за клубникой со сливками Ника сказала, что у верующего в принципе не может быть проблем. Ни боязни чего бы то ни было, если в нем уже есть перекрывающий все тревоги страх Божий; ни болезни как катастрофы, ни, как мы видим, тюрьмы — если он предан Богу всей своей сущностью без остатка. Рассказывая об этом мне, Найман заметил, что случаются такие мгновения, когда нельзя не разинуть рот, чтобы немедленно что угодно, любую чушь произнести. Лишь бы не дать сказанному перед тем ни секунды жизни и, таким образом, не успеть умереть от стыда. Ты, Ника, хочешь сказать, мгновенно заговорил он поэтому, не поднимая глаз от блюдечка, что проблемы — это то, чем Бог наилучшим образом устраивает человеческую судьбу? Ну именно! Но верующий, он что же, не может никогда этого самого? поползнуться? заморочиться? пискнуть «помоги моему неверию, вылечи, боженька, поскорей моего сыночка-доченьку»? Да и просто обмереть вдруг, набредя на мысль: а не отец ли дьявол сочинил всю эту историю про да-будет-свет и Адама и самого Иисуса распятого? Хоть на минуту, а то и на день, а то и на целую неделю — не может? А на то, улыбнулась Ника торжествующе и взглянула на Б.Б. лукаво, есть псалом… «Сто восемнадцатый», — перехватил у нее Б.Б. «Сто восемнадцатый», — подтвердила она. «Длинный, — сказал Б.Б., — но если дочитаешь до конца, вера тут как тут, и рак — рай, и ларёк, я имею в виду лагерный, — раёк».
* * *
Ника улетела, Б.Б. стал готовить рокировку — как они условились называть дачную операцию. «Если только до этого дойдет», — каждый раз, когда он об этом заговаривал, не уставала она прибавлять. «Если, конечно если», — соглашался он с миролюбием тюремного исполнителя, только что проверившего перед завтрашним включением контакты электрического стула. Политическая обстановка быстро менялась, от недели к неделе, в новой для него, свежей после духоты барака атмосфере он это чувствовал, как животное перемену погоды, надо было запускать дело немедленно, едва их официально объявят наследниками. День за днем уходили на новые и новые совещания с юристами, постепенное включение в предстоящий процесс необходимых чиновников, подбор на роль покупателя доверенного лица из достаточно безответных, но и достаточно сообразительных дальних родственников.
Я думаю, в этой ровной насыщенной деятельности и была причина последовавшего срыва и ступора. Буквально с первых суток на воле он не дал себе времени, чтобы расслабиться, отрешиться, переключиться. По пути следования поезда, из Перми, из Казани, из Горького, он успевал кому-то звонить по междугородней. За несколько дней все, что было оборвано арестом, он проверил, восстановил, прежние связи заработали, новые подсоединились. Как биржевой маклер, снявший на ночь с телефонных аппаратов трубки, он, проснувшись, положил их одну за другой в гнезда, и через минуту они зазвонили. Он включился в издание Гайто Газданова, послал заявку на антологию средневековых поэтов Испании, и на десятитомник полного собрания обэриутов, и на перевод английских эссе Бродского, подал в суд на журнал, который без упоминания его имени опубликовал подготовленные им для печати стихи Кандинского, отнес в Союз писателей заявление с просьбой принять в члены, отправил в аттестационную комиссию протест против лишения его кандидатской степени — и еще сто, двести писем, пятьдесят поздравительных открыток, двадцать пять бандеролей с выпущенным за это время Международной Амнистией буклетиком его стихов.
Накат и натиск новой активности сравнялись с энергией, которая три года одиннадцать месяцев и два дня тому назад разбилась об упавший перед ним железный шлюз, и быстро стали превосходить ее — как будто этого времени не было вовсе. Просчет — или, если угодно, нерасчетливость — заключался в том, что обрыв жизни, ну хотя бы в виде мгновенно