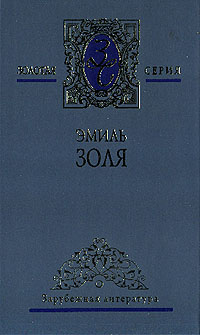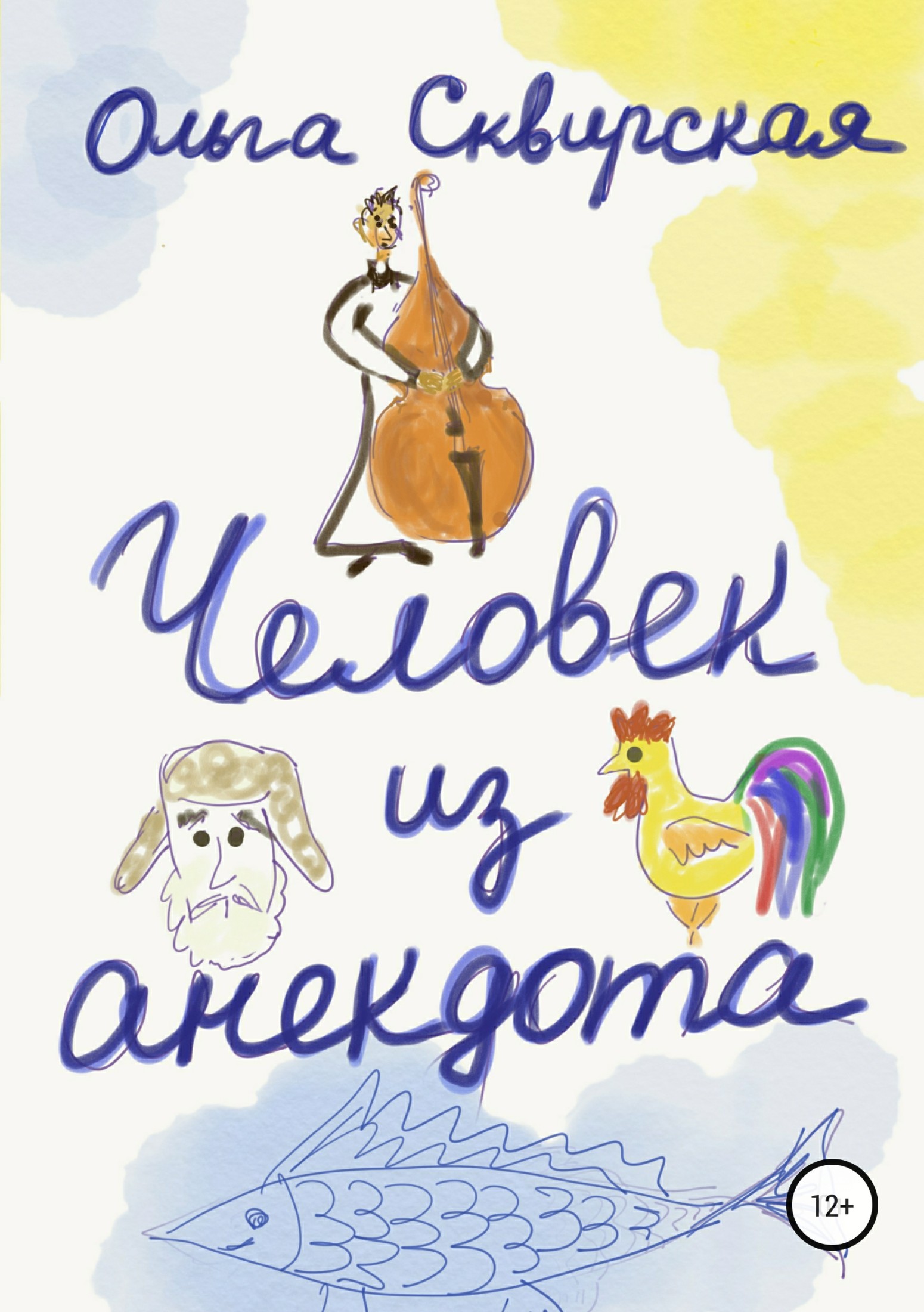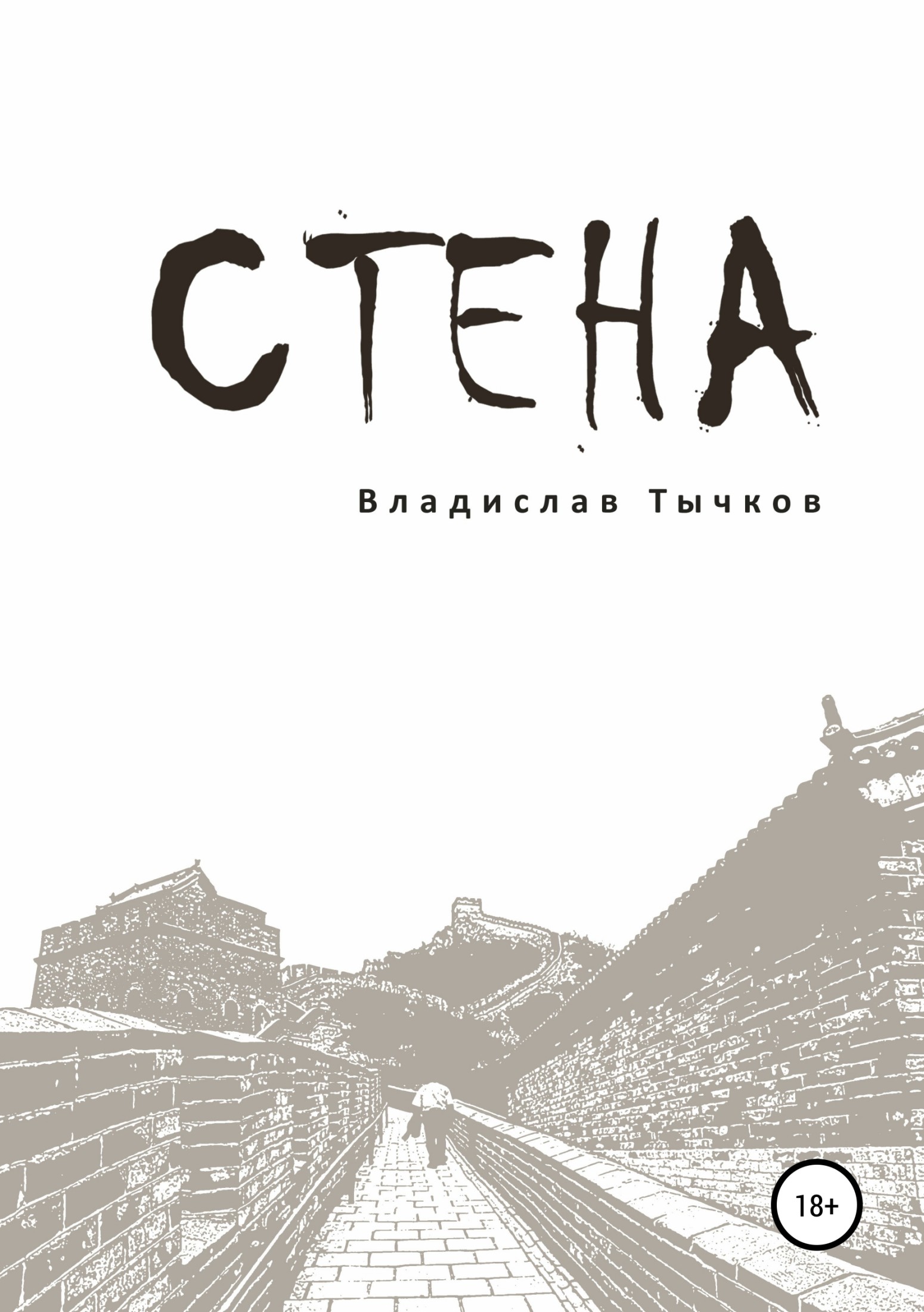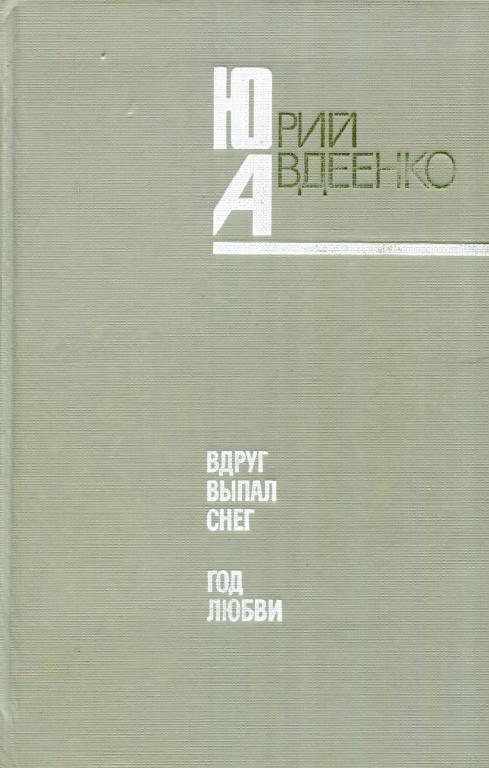Книга Огни в долине - Анатолий Иванович Дементьев
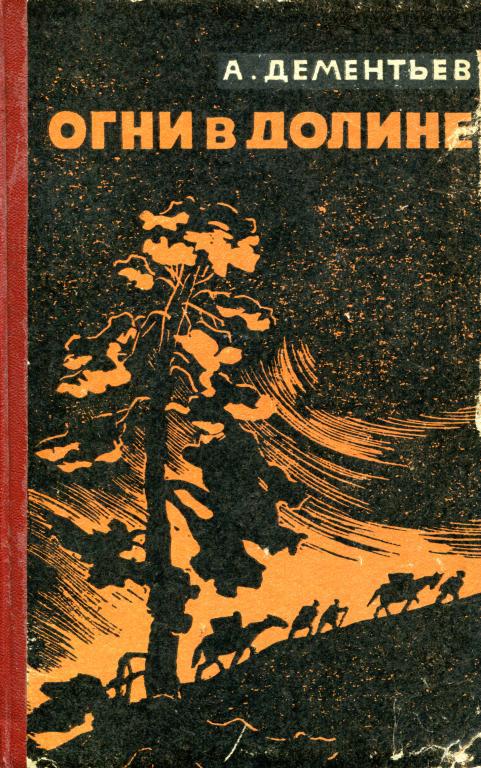
- Жанр: Книги / Классика
- Автор: Анатолий Иванович Дементьев
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Дементьев Анатолий Иванович родился в 1921 году в г. Троицке. По окончании школы был призван в Советскую Армию. После демобилизации работал в газете, много лет сотрудничал в «Уральских огоньках». Сейчас Анатолий Иванович — старший редактор Челябинского комитета по радиовещанию и телевидению. Первая книжка А. И. Дементьева «По следу» вышла в 1953 году. Его перу принадлежат маленькая повесть для детей «Про двух медвежат», сборник рассказов «Охота пуще неволи», «Сказки и рассказы», «Зеленый шум», повесть «Подземные Робинзоны», роман «Прииск в тайге». Книга «Огни в долине» охватывает большой отрезок времени: от конца 20-х годов до Великой Отечественной войны. Герои те же, что в романе «Прииск в тайге»: Майский, Громов, Мельникова, Плетнев и др. События произведения «Огни в долине» в основном происходят в Зареченске и Златогорске.
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Огни в долине - Анатолий Иванович Дементьев», после закрытия браузера.