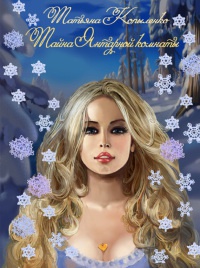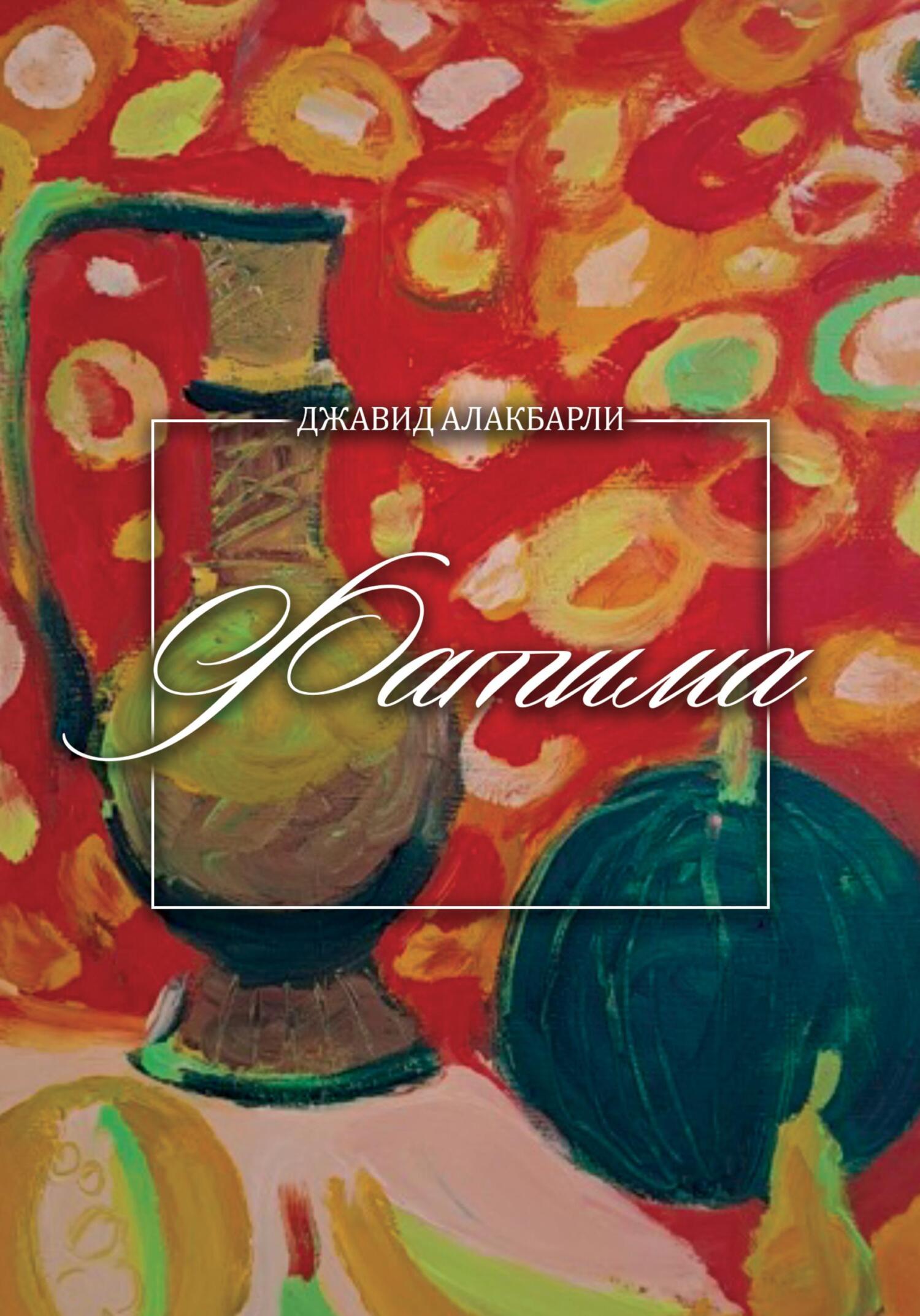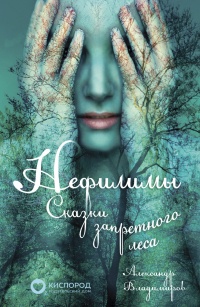я лечу к нему. Так быстро, что я только и успела голосом Наташи подумать “о, нет”, когда тело с хлопком и выворачивающим душу хрустом упало на шершавый холодный асфальт. С заминкой в долю секунды после ног, корпуса и поджатых рук, с размаху, как заполненный бетоном мяч, под звук ломающихся позвонков, ударилась голова. Сначала давление, я чувствовала, как кости черепа крошатся внутрь, впиваясь в мягкие ткани, а затем снова хлынула кровь. И единственный фонарь, свидетель, угас.
Поэтому, когда я в следующий раз приоткрыла веки, и увидела хмурое, выражающее отвращение, лицо фельдшера, который определенно помогал переложить меня на носилки, то была даже рада ему.
— Лыбится, — кто-то заметил.
Казалось неясным, мерещится мне вновь что-то или кто-то действительно просится поехать на скорой:
— У нее больше никого нет, — женский истеричный голос следовал за врачом вокруг машины, — пожалуйста, я ее очень близкая подруга… я заплачу! Сколько? Пожалуйста, скажите сколько…
— Че ты орешь? — прошипел мужчина, а дальше добавил шепотом, — пятьдесят и укажем вас близким родственником.
— Хорошо.
Что происходило следующие дни, я достоверно не знала. Вернее, я не знала ничего о перемещениях и манипуляциях с моим телом, но ощущала абсолютно все. Тошнота не проходила, ужасно кружилась голова, и невозможно было сфокусировать взгляд, но я и не пыталась. Честно говоря, мне все время хотелось спать, поэтому, проваливаясь в черный без образов и событий сон, я радовалась. Нельзя сказать, что осознав свое спасение, я была довольна и готова идти, как говориться, «жить жизнь». Нет, я так же оставалась обузой, убийцей, а Арина даже в моем полусознании не приходила. Если я и задумывалась в редких проблесках, что однажды вернусь к ясному уму, то испытывала страх и стыд. И, спустя время, когда меня перевезли куда-то, и в помещении сменился свет, а рядом я услышала голос Энже, то притворилась, что сплю, хотя уже временами даже устанавливала зрительный контакт с людьми в белых халатах, а за пару часов до появления моей подруги, попыталась подняться на руках и сесть. Но меня подводило зрение, поэтому было невдомек, что если никто не сидит рядом, то маленькая камера под потолком точно все видит.
Энже бормотала что-то про кошку, про то, что выпали сугробы, про Новый год. Определенно нехотя, иногда она замолкала и тяжело вздыхала, стараясь не выдать, что плачет. Меня сковывал стыд так, что я очень неестественно замирала, стараясь почти не дышать, но посмотреть в глаза человеку, которого я практически подвергла всему тому, отчего сама мучилась, я не могла. Оставляя записку, я не представляла, что ей будет так тяжело. И отчасти казалось, что от того, что я выжила, ей еще тяжелее, но в довесок еще и финансово.
— Почему ты не хочешь со мной разговаривать… — она произнесла это шепотом на выдохе.
«Почему ты не приходишь ко мне?» — так ли ощущала себя Арина, если могла слышать меня у колумбария? И так ли ощущает себя Энже, сидя в моей палате? Я вела себя эгоистично, мне следовало задуматься о чувствах других, а потому, сделав усилие, я ей ответила:
— Я хочу, но я не знаю, что сказать.
— Как ты себя чувствуешь?
Я, наконец, посмотрела на нее. Вокруг все расплывалось, но я с удивлением отметила, что вижу каждую длинную русую ресничку, прожилки в серых глазах, с красноватым оттенком пряди, спадающие на лицо, и усталую улыбку на изогнутых губах. Она так и не задала ни единого вопроса о моих мотивах, не упрекнула ни за что. С ней мы тот день больше не обсуждали.
Поговорить о моей неудаче хотела врач — Анастасия Леонидовна. Изо дня в день, начиная с четвертой недели моего пребывания в стационаре, мы встречались в ее кабинете. Во время сеансов мой взгляд всегда был прикован к картине, стоявшей позади ее стола. Никаких сомнений в том, что это подарок пациента, не было, впрочем, как и в том, что в диагнозе автора присутствует слово шизофрения. Еще у меня сложилось мнение, что художником была девушка, но обосновать это я никак не могла. На полотне, вручную натянутом на раму, в серых тонах была изображена карикатурная девочка с косичками, а ее глазные яблоки, все еще соединенные нервами с глазницами, лежали на спинах уток в пруду. Анастасия Леонидовна это заметила и на третью встречу картина пропала.
— Как вы себя чувствуете?
— Превосходно. Где картина?
— Я решила повесить ее в другом месте, — она заинтересовалась моим ответом и отложила папку. — Вас это расстраивает?
— Да, она мне нравилась.
Доктор, не глядя, что-то коротко записала.
— Я подумаю над тем, чтобы вернуть ее в кабинет, если вы, наконец, поговорите со мной.
Мне порядком надоели наши однообразные беседы, которые заканчивались вопросом, не собираюсь ли я повторить попытку суицида. Предыдущие два дня разговор будто с самого начала шел к этому, а сил терпеть что-либо у меня не осталось, я чувствовала то, что трачу наше время и деньги Энже напрасно.
— Прошло уже несколько недель, никаких диких побочек у меня нет. Думаю, я могу выписываться.
— Акылай, я не думаю, что вы готовы.
— Я могу отказаться под собственную ответственность? — я спрашивала из вежливости, подразумевая свое высказывание как утверждение.
Анастасия Леонидовна — молодая, лет 30–35 женщина, типичная и благополучная русая славянка, какие рождаются врачами в третьем поколении. Я скептически относилась к тому, что такая, как она, могла бы хоть на мгновение меня понять.
— Значит, вы собираетесь повторить?
— Я не говорила этого. Я просто хочу домой.
— А я, прежде чем отпущу вас, хочу быть уверена, что вы будете в порядке. Видите ли, мы все чего-то хотим, и, думаю, если мы поможем друг другу, то получим желаемое.
— Боже, я все вам рассказала.
— Я с вами не согласна, вы отравились не из-за смерти подруги, — она внимательно смотрела мне прямо в глаза. — И если вы ответите на все мои вопросы, то я докажу вам это. Или наоборот, вы докажете мне, что я не права. К тому же, ваше лечение оплачено почти до конца декабря и, если вы беспокоитесь о деньгах, то в случае вашей выписки под личную ответственность, они будут безвозвратно потеряны.
Мне стало не по себе от того, что она буквально видела меня насквозь.
— Допустим.
— Начнем издалека, — она отлистала страниц десять своих записей, — вы выросли в детском доме, никогда не видели и не знаете