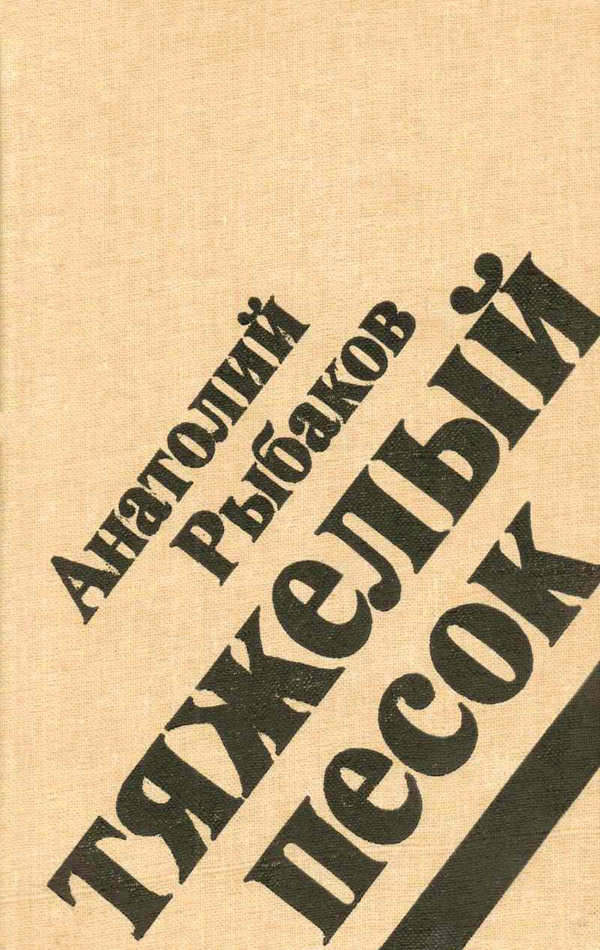расследованию «деятельности бывшего военного министра по вопросам снабжения армии». Председателем комиссии стал член Государственного совета генерал Николай Петров, но это для нашего рассказа уже не важно. После краха своих карьер Зевс-Сухомлинов и Гера-Сухомлинова… Да что об этом говорить? Это уже неинтересно нашему читателю, он любит рассказы только о блистательных взлетах и падениях. Кого интересует, что происходит с головой человека, упавшей в корзину подле гильотины, и куда потом уносят обезглавленное тело…
Обезглавленное тело уносят, разумеется, в какую-нибудь мертвецкую, но было маловероятно, что тело Владимира Александровича Сухомлинова попадет на стол Мехмеда Грахо, тем более что инцидент с русским военным министром замяли и ни один рыжий волос не упал с остатков его шевелюры возле ушей, так что для многих и это не является предметом повествования. Последние дни сараевского патологоанатома, относящиеся к 1915 году, тоже не могли стать сюжетом для рассказа — разве что только в его голове.
После поражения австрийских войск под Сувобором он вместе со своим персоналом спешно покинул старую больницу в белградской Ятаган-мале, где он так удобно устроился. Вернулся в Сараево. Увидел первые признаки появившейся у населения холеры. Присоединился к инфекционистам. Без слов. Тоже заразился. Умер две недели спустя. Суеверные люди сказали бы, что это кара за тот год, когда он выступал в роли доктора-смерть. Менее склонные к предрассудкам могли бы проявить интерес к последним словам патологоанатома, которые, может быть, объяснили бы, как он стал доктором-смерть. Но последних слов Грахо не произнес. Возле него была только медицинская сестра. Новые ботинки, купленные им в начале 1915 года, он не успел даже разносить…
Таким мог бы быть рассказ о конце доктора-смерть в соответствии с теми данными, что сохранились об этом человеке. Но патологоанатом, под нож которого попали тела мертвого эрцгерцога Фердинанда и герцогини Гогенберг, умер погруженный в свои мечты. Перед смертью он влюбился в ухаживающую за ним медсестру. Когда болезнь усилилась и его прежде полное и рыхлое тело стало терять по литру жидкости в час, Мехмед Грахо вообразил, что он красив. Он представлял себя красивым, и таким же в своих мечтах казался ухаживающей за ним медсестре. На третий день дряблая кожа свисала у него с боков, а грудные мышцы болтались, как вымя тощей коровы. Но фантазии Мехмеда Грахо стали еще более яркими. Между двумя приступами горячки он с сумасшедшей настойчивостью убеждал себя, что неотразим и именно поэтому медсестра так старательно утирает ему пот со лба белым бинтом.
Умер он, когда уже вся комната пропахла его испражнениями, именно в тот миг, когда в своем внутреннем воображаемом мире он, неотразимо красивый и разодетый как сирийский принц из «Тысячи и одной ночи», собрался признаться в любви медицинской сестре. Но слов не осталось. И сил тоже. Сморщенная, высохшая как пергамент кожа покрывала зараженное тело, которое могильщики сразу же отнесли на кладбище в Бараево и там сожгли. Из имущества Мехмеда Грахо остались карманные часы и пара широких ботинок с ортопедической подошвой. Никто не торопился получить наследство, ведь у патологоанатома не было семьи. Ботинки передали австро-венгерскому Красному Кресту, а часы послали на фронт, чтобы их вручили какому-нибудь солдату. Что в дальнейшем случилось с этими часами, отправленными на Великую войну, неизвестно, но вот другие часы с Западного фронта не переставали вызывать недоумение.
Это был тот самый будильник, который звонил на французских позициях под Виком на Эне каждое утро ровно в десять часов. После того как его не смогли победить все часы с кукушками, присланные из Пруссии, один немецкий солдат, студент, говоривший по-французски, начал перекрикиваться с французами через ничейную землю. Никто не смел показаться над бруствером окопа, и этот разговор на ломаном французском и искаженном немецком длился целыми днями. Но и после этого не прояснилось, почему звонит тот самый будильник; так продолжалось до того дня, когда наступило перемирие и стало возможным собрать убитых и с той и с другой стороны. Студент вызвался выйти из окопа вместе с теми, кто должен был собирать замерзшие тела своих товарищей. Однако он не стал носить трупы, а сразу же направился к французам. На него с недоверием смотрели какие-то чужие лица, удивительно похожие на его лицо. Студенты или лавочники, художники или механики — у всех на лицах лежала печать войны, и они, как монголоиды, были похожи друг на друга. И на него. Как братья. Но братья готовы были убивать друг друга, и только один-единственный день давал им возможность не делать этого. В этот день немецкий студент искал хоть какое-то объяснение, почему будильник звонит именно в десять часов, — и нашел его.
Ответ был настолько простым, что он сначала не мог в это поверить. Будильник подавал голос потому, что один лейтенант 86-го французского полка обещал своей жене в Туроне, что он звонком будильника будет сообщать ей, что еще жив. В ответ она — со своей стороны — заводила будильник на то же самое время, чтобы сообщить любимому мужу, что ему верна… Вначале засмеялся немецкий студент, а потом в окопе раздался дружный хохот. Все эти догадки, предсказания, десяток прусских часов с воинственными кукушками… Его товарищи долго ждали, когда он перестанет смеяться и объяснит остальным, почему в 1915 году этот будильник звонил точно в десять. Наконец, он рассказал им. Остальным солдатам уже было не до смеха. Особенно тем, что писали женам и просили прислать часы. А будильник продолжал звонить, только теперь для немцев в окопах это не было зловещим предзнаменованием. Звон будильника уподобился выстрелу из пушки, сообщающему точное время, и враждующие стороны еще долго проверяли свои часы по будильнику лейтенанта 86-го французского полка.
Неизвестно, звонил ли будильник в Туроне столь же регулярно: каждый день в десять утра. Если бы кто-нибудь прошелся по улицам и расспросил жителей этого города в бассейне Роны, слышали ли они о будильнике, то многие, вероятно, сказали бы, что ничего об этом не знают. В эти военные дни в Туроне гораздо больше говорили о войне двух виноторговок, которые вместо ушедших на фронт мужей продолжали вести дело и поставляли вино в два знаменитых столичных кафе — «Ротонду» и «Клозери де Лила». Эта война, начавшаяся в Туроне, где родились Рабле и Декарт, продолжилась в Париже, где в схватку вступили дядюшка Либион, содержащий сборный пункт художников «Ротонда», и дядюшка Комбес, владелец артистического кафе «Клозери де Лила».
Все началось из-за плохого вина, но затем «виноторговая война» с территории города Турона переместилась