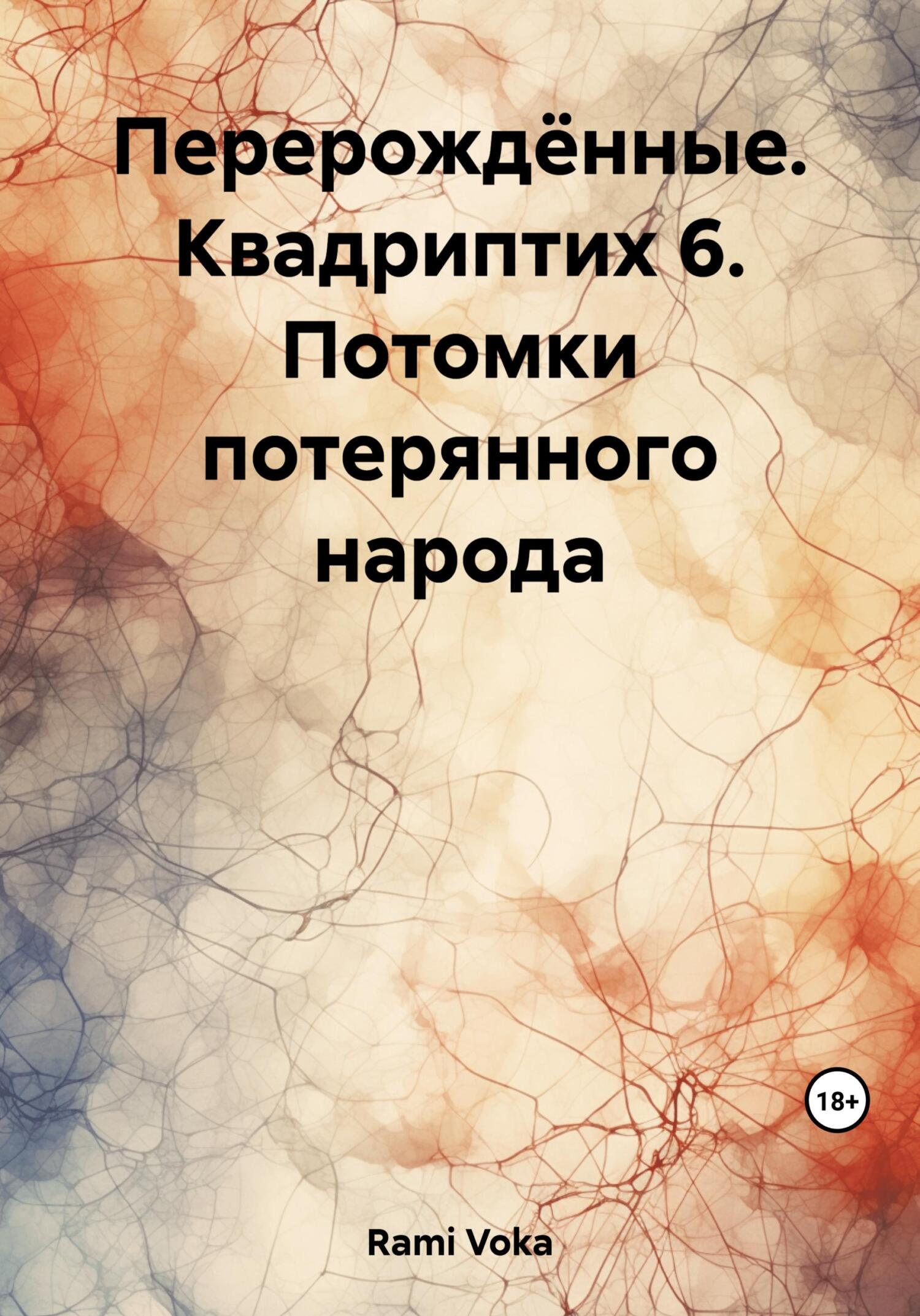мной? Я тут же прогнал эту мысль. Штепка резко захлопнула окно и легла на топчан. Снег на полу растаял, комната снова прогрелась.
— Ты когда-нибудь выходила замуж?
— Раза три, — похвасталась Штепка.
Я и бровью не повел.
— Наверно, это весело, — усмехнулся я, но мне было несколько неприятно слышать это. Однако я не подал виду. Я простил ей все. Теперь она была со мной.
— Да, весело. А ты?
Я махнул рукой. Не стоило говорить об этом.
— Я не женился ни разу, — произнес я с легким сожалением, потому что для меня это имело значение.
Штепка прыснула. Она это хорошо знала.
Я вытянул ноги и принялся рассматривать полосы на своем свитере.
— Но теперь я женюсь. На тебе!
Я много выпил, но сознавал, что говорю.
Штепка тоже сделалась серьезной.
— Я выйду за тебя, Юро.
— Это будет твоя четвертая свадьба, — пошутил я.
Штепка ничего не ответила.
Сложив свитер ровно пополам, я перекинул его через спинку стула. На минуту сжал в руках бутыль с вином. Потом снял с керосиновой лампы стекло и чиркнул спичкой. В домике давно не топили. На улице был мороз. Фитиль никак не загорался. Ладонь Штепки все еще оставалась пустой. Я вынул из коробка еще одну спичку, но раздумал зажигать ее.
Я привстал с топчана, и Штепка приподнялась на локтях. С третьей или четвертой спички фитиль, наконец, загорелся.
Штепка взметнулась с топчана и заглянула в бутыль.
— Чего ты? — спросил я.
— Ты уже все выпил. Я принесу из сарая еще, — сказала она.
— Это будет уже свадебное вино, — воскликнул я, и глаза у меня заблестели.
Пока она одевалась, я растянулся на ее месте. Мне было хорошо. Потом я приподнялся на локтях. Этому я научился от Штепки.
Когда Штепка открыла дверь и морозный воздух дошел до меня, я, быстро вскочив, схватил Штепку за руку. Ладонь ее была горячая.
— Я пойду с тобой.
Штепка вырвалась.
— Не нужно. Я сама.
И ушла.
Мы с дедушкой Штепки сидели на кухне в Келчанах под лампой со стеклянными подвесками. Старик вытащил из ящика стола старую облупленную линейку и потянулся к занавескам. Без линейки он бы до них не дотянулся. Потом задвинул занавески, чтобы нас не было видно с улицы. Посередине одна занавеска заходила за другую.
— Когда ты был в поле, возил кукурузу, она была тут с ним, — сказал он.
Я махнул рукой.
— Ты был ей только любопытен, — продолжал старик.
Я снова махнул рукой. Меня это больше не интересовало.
— Тебе нужно было уехать летом. Не стоила она этого, бестолочь, — облегчил себе душу старик, погрозив кулаком в сторону Кийова. — Уж больше-то она ко мне не приедет. Пусть с ней возятся родители.
Старик вытащил пробку из оплетенной бутыли и налил мне вина.
— Выпей!
Я посмотрел на вино. Оно было красное, как кровь, как полосы на моем свитере. Напрасно я пил в Келчанах вино. Оно мне не помогло. Я отрицательно покачал головой и не дотронулся до стакана.
Старик опустил голову. Ему нечем было мне помочь. Это его расстроило. Я сунул руку в карман куртки.
— Вот вам «Спарта», пожалуйста.
Старик оживился. Сигаретой я его всегда мог уважить. Я подождал, пока он докурит сигарету до конца. Разглядывал стеклянные подвески. Они поблескивали, и дым задерживался между ними.
— Я думал, что у вас я, наконец, найду дом.
— На рождество будешь дома, — уверенно произнес старик.
Дома! Это должно было быть здесь. В Келчанах. У Штепки.
— Да, на рождество, — вздохнул я.
Мне нравилось здесь, в Моравии, я совсем не спешил в Прагу. За год я привык к этим местам, эти нити не так-то легко было порвать.
— Работу я здесь нашел, а счастье — нет, — снова подвел я итог.
Старик поднял вверх указательный палец и посмотрел мне прямо в глаза.
— От любви не умирают.
Я бросил на него колючий взгляд. Штепка все еще жила в моем сердце.
Старик встал и вышел. Я обвел взглядом кухню. После меня здесь ничего не должно остаться, говорил я себе и представлял, как Штепка бросает в огонь и в окно вещи Зденека.
В дверях я столкнулся со стариком.
В каждой руке он держал по бутылке красного вина. И протягивал их мне. Руки его дрожали.
— Это вино я готовил вам на свадьбу. Ты его заслужил.
Я насупился. Подарки меня не интересовали. А свадебное вино тем более.
— Что мне с ним делать? — пробормотал я, но тут же все понял.
Старик искренне желал нам со Штепкой счастья.
— Возьми. Наверное, мы больше не увидимся. Дома, на рождество, ты меня вспомнишь, — проговорил он, глаза у него заслезились, потому что он был очень старый. Он был похож на Штепку. Мне снова стало жарко: от любви к Штепке, от вина, от этого края, от его земли — от моего счастья. Я смягчился и засунул бутылки в сумку.
Потом вернулся в кухню, где горела лампа со стеклянными подвесками, и с каким-то восторженным чувством набрал на лопатку черного угля. Уголь блестел так же, как стеклянные подвески над столом. Я бросил уголь в печку и вспомнил тепло Штепкиных рук.
Старик с недоумением посмотрел на меня.
— После меня пусть останется тепло. Хоть до утра. Хоть что-нибудь, — объяснил я, аккуратно положив лопатку на место. Мне снова стало хороню.
Старик тоже выпрямился.
— Ты поедешь из Кийова?
— Из Влкоши, — отрезал я, потому что в Кийове жила Штепка.
Старик понял это.
— Спасибо, — сказал я и быстро вышел на морозную улицу.
Падал снег.
Вечером снег был чистый. Он освещал мне дорогу. Я шел, и в сумке одна об другую позвякивали бутылки со свадебным вином. За воротником и в волосах снег, а в сердце…
Около леса я свернул.
К Кийову.
Иржи Навратил, «Нитки», 1975.
Перевод А. Лешковой.
Богумил Ногейл
Ощущение, что родина не только там, где ты родился, проистекает из всей моей жизни. За прожитые пятьдесят лет я был рабочим, техником-строителем, деятелем национальных комитетов, просветработником и журналистом. И всегда в разных местах. По большей части там, куда меня забросила необходимость «при сем присутствовать». И поэтому мои дома менялись, как менялась и вся наша республика, а вместе с тем рождалось ощущение, что я — дома всюду, где меня окружают хорошие, искренние люди. Где что-то решается и где я всегда найду друзей. С этим ощущением я живу и как писатель, и как деятель Союза чешских писателей.
Мне чужды ностальгические вздохи о «родном