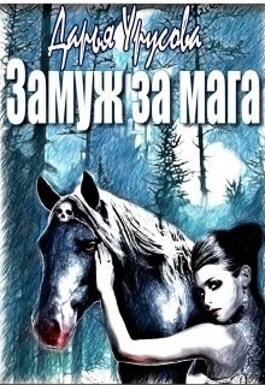более-менее удобном случае. Он это заслужил.
Пока он, слегка успокоившись, выкладывал ей свои условия (что она всегда должна быть дома, должна ожидать его, а он в свою очередь может приезжать в любой час; что пора уже сократить эти безумные траты - довольно уже шляпок, она ему и так нравится, а для других наряжаться нечего), Адель уяснила только одно: надо все силы напрячь, но не дать ему взять над ней верх. Если Лакруа так дик, груб и необуздан, что она не может справиться с ним лишь силой красоты, надо вообще избавиться от него. Как угодно. У нее теперь есть квартира, есть чек. Надо найти другого покровителя, более цивилизованного, а еще лучше - вообще обойтись без любовников до тех пор, пока не родится ребенок.
Она действительно чувствовала себя неважно, любовь и скандалы очень ее мучили.
- Полагаю, мы теперь все выяснили, - в который раз повторил Лакруа, снова надевая шляпу, и в голосе его все еще звучала угроза. - Не советую считать меня болваном! Я готов разоряться, черт возьми, но я не готов быть рогоносцем и терпеть, пока ты будешь развлекаться с каким-нибудь хлыщом.
Адель, сидя на разоренной постели, совершенно измученная его нотациями и еще более противными вспышками желания, вполголоса произнесла:
- Да ступайте же, наконец! Ваша жена и так будет удивлена, если вы придете так поздно.
Голос ее звучал устало. Лакруа боялся жены, поэтому подозрительно взглянул на Адель и поспешно вышел. Она пробормотала ему вслед проклятие, совершенно искренне желая Лакруа свалиться с лестницы и сломать себе шею. Презрение душило ее. «Ах, Боже мой, - подумала она в отчаянии, - этого драгуна не следует терпеть ни за какие деньги!»
Не только скупость Лакруа вызывала у Адель отвращение. Как любовник он был просто невыносим. Адель, знавшая в этом отношении только Эдуарда, невольно сравнивала, и сравнение было не в пользу Лакруа. После Эдуарда он казался грубым, эгоистичным, ничего не умеющим, несдержанным. Тут и речи не было о какой-то романтике или элементарной деликатности: он набросился на Адель в первую же минуту, как только оказался с ней наедине в закрытом фиакре; без поцелуев, без ласк, с какими-то дикими стонами, он тискал ее и мял, сразу же задирая юбки. Ей поначалу было даже страшно - она ведь кроме Эдуарда, ни с кем этого еще не делала. Но ее сразу разобрал смех, когда она почувствовала, что он пытается войти в нее - это было довольно затруднительно, потому что нижнее белье все еще оставалось на ней. Но у Лакруа, по-видимому, уже не было терпения; вжимаясь в нее напряженной плотью, постанывая и тяжело дыша, он дернулся несколько раз и Адель ощутила, как что-то теплое плывет по ее ногам.
Это было так странно, что Адель не сразу в это поверила. Потом пришло чувство легкого презрения. Подумать только, ведь Лакруа не мальчик, ему сорок лет или около этого. Просто странно, как некрасиво сделал все это взрослый мужчина. Потом, в следующий раз, он был уже не так поспешен и сумел все-таки овладеть ею, но подсознательно Адель уже не чувствовала никакого уважения к Лакруа. Последующие дни ничего не изменили. Она, правда, полностью избавилась от страха перед ним как перед мужчиной и испытывала теперь только глубочайшее, хорошо скрытое омерзение.
Да, сколько наслаждения переживала она когда-то с Эдуардом, столько же теперь чувствовала омерзения. Это была какая-то полная противоположность графу де Монтрею. Лакруа даже не ласкал ее - она отмечала это в уме, хотя вообще-то ей вовсе этих ласк и не хотелось. Он кончал, едва успев начать, а начинал не заботясь о ней. Мало-помалу она догадалась, что это не оттого, что он оплатил ее и потому о ней не заботится - нет, он наверняка со всеми был такой, даже с женой. Бедная жена! Какое это, должно быть, мучение - всю жизнь прожить с таким мужчиной и даже не узнать, сколько радости может приносить любовь! Адель хотя бы знала это, поэтому считала Лакруа лишь досадным исключением.
Кроме того, он был настолько эгоистичен, что кончал прямо в нее, ни о чем ее не спрашивая. Сейчас Адель было, конечно, все равно, она и так была беременна, но его поведение кое о чем говорило. Несмотря на то, что он совершенно себя не контролировал и был пятисекундным мужчиной, он мог возбуждаться снова и снова и заниматься этим часами, что не проносило Адель никакого удовольствия, а только утомляло. И в довершение ко всему прочему у него были какие-то свои фантазии: он, например, любил, чтобы она говорила ему комплименты и пела дифирамбы его мужским достоинствам, он прямо-таки просил об этом - и она, скрепя сердце, на это еще могла согласиться, но прочие, более интимные просьбы старалась отклонять. Пусть удовлетворяется тем, что имеет, а оказывать ему какие-то особые знаки внимания Адель была не намерена. Просто не могла. Слишком презирала.
Понемногу Адель стала понимать, что, хотя квартира, деньги и наряды достались ей в целом очень легко, она еще ни на миг не приблизилась к тому, о чем мечтала. Она со злостью и тоской сознавала, что является пока обыкновенной, ничем не приметной содержанкой, каких тысячи в Париже. Она потеряла независимость и вынуждена была постоянно терпеть присутствие неприятного ей человека, грубого скандалиста, скупого буржуа.
Существование ее было крайне незавидным, и она не переставала ломать себе голову над тем, как бы его изменить.
6
В дождливый воскресный вечер 18 октября префект парижской полиции Анри Жиске был завален работой - делами служебными и делами, связанными с его собственными предприятиями и банком. На службе дел и тревог было больше. Уже очень давно из разрозненных и не вполне внятных донесений полицейских агентов у Жиске складывалось впечатление, что зреет какой-то новый заговор левых, которые на этот раз хотят ни много ни мало - захватить власть. Два года назад судьи и король были так безумны, что после смехотворного срока заключения выпустили на свободу таких непримиримых противников режима, как Огюст Бланки и его сообщники. Теперь они снова плели какие-то паутинные нити, но, черт возьми, на этот раз у них была сильная конспирация - по образцу итальянских карбонариев - и шифры. Жиске, ненавидевший левых и демократов всех мастей, охотно арестовал бы их всех без разбора и отправил бы на каторгу. Ему, если бы он действовал сам, не потребовались