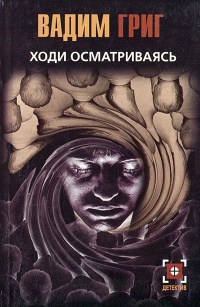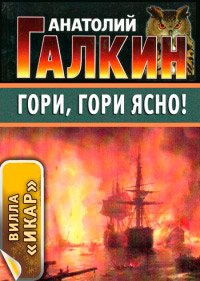ходу выдала. Она, оказывается, большая любительница подобной водицы. Нюхнула и глазки закатила! «Ой! Мой любимый запах!» Вытащила из шкафа флакон, брызнула из него, потом опять в тетрадку носом ткнулась и заявила: дескать, тетрадочку, конечно, по всем правилам проверят, но она, Нина, и так твердо скажет, что это… — Орехов полез в карман, вытащил оттуда мятую бумажку, прочитал чуть ли не по слогам: — Фирма «Герлан», туалетная вода «Аква Аллегория», апельсиновая. — После чего сунул бумажку снова в карман и подытожил с укоризной: — Семина сказала, что эта водица несколько тысяч рублей стоит, я аж чертыхнулся. И не жалко этим женщинам так тратиться? Купили бы апельсинов, проку было бы больше: и на себя бы побрызгали, и в рот сунули.
— Вам, Борис Борисович, этого не понять, — улыбнулся Аркадий Михайлович. — Зато понятно, что человек, который пролил парфюм, почти наверняка мог позволить себе подобную апельсиновую воду. А это в любом случае зацепка.
— Еще есть одна, тоже, может, зацепка, — сказал Орехов. — Тетрадь свою Пирогова аккуратно вела. Все четко, ясно, чисто — прямо образцово. Но один лист надорван. Вроде как его совсем вырвать хотели, да передумали. Это лист с фамилиями одиннадцатого «А» класса. Того, между прочим, класса, на уроке которого тетрадочка и была обнаружена.
— Очень любопытно… — проговорил Казик. — А что-нибудь занятное на этом листочке написано? Или не успела еще толком Галина Антоновна свои претензии зафиксировать?
— Успела, успела. Учебный год только начался, но уже и двойки выставлены, и соответствующие слова написаны… А у меня лично подозрения имеются: не побывала ли тетрадочка в руках у кого-то из замечательных детишек? То есть кто-то из этого одиннадцатого «А» кондуит Пироговой прочитал, решил листик вырвать, а потом передумал. И передумал уже после смерти Пироговой, потому как при жизни ее подобная затея была совершенно бессмысленна.
— Очень любопытно… — повторил Казик. — Тетрадь Пироговой попадает некоему человеку, который ее изучает, пытается «подправить», но передумывает, затем прячет и, намеренно или ненамеренно, обливает туалетной водой с характерным запахом, после чего подбрасывает в кабинет Саранцевой. А в результате дает вполне конкретное направление в сторону одиннадцатого «А» класса. И все это сильно смахивает на еще один ложный след…
Глава 17
Володя никогда не считал себя тонким психологом, не умел в нужный момент быстро находить необходимые слова, не знал, с какого бока заходить, если заходить надо было именно сбоку, не представлял, как правильно себя вести в ситуации, совершенно ему не понятной.
Он посмотрел на Лизу, перевел взгляд на висящий прямо в прихожей на плечиках мокрый плащ и спросил:
— Плащ-то дорогой?
— Дорогой, — воздохнула Лиза.
Красивый белый плащ от воды превратился в мято-серый и какой-то унылый. С подола и рукавов сбегали и падали на пол похожие на слезы капли.
— Подстелить бы надо, а то лужа будет, поскользнешься еще, — сказал Володя очень серьезно, словно стекающая с плаща вода и была самой главной угрозой.
— Да, надо, — согласилась Лиза, тут же исчезла в ванной и так же мгновенно появилась вновь с тряпкой очень яркого, жизнерадостно-желтого цвета.
Она принялась расстилать тряпку на полу, приноравливаясь к падающим каплям, а Володя все так же продолжал топтаться у двери, мучительно соображая, как же следует вести себя с девушкой, в которую бросили дерьмом — в прямом и в общем-то переносном смысле слова.
Самым правильным было бы выразить сочувствие. Он действительно сочувствовал. Очень. Потому что обидно. С какой стати такое вот безобразие? И плащ жалко, дорогая вещь. И еще немного страшно. Ладно, если это простое хулиганство, а если нет?
По-хорошему, надо было сказать что-нибудь сочувствующее, но ведь не станешь же говорить про обиду, дороговизну и страх? Володя представил, как все это будет выглядеть, и решил, что совсем не здорово. Конечно, можно было эдак бодро заявить, дескать, все ерунда, чья-то дурацкая шутка, и если даже не шутка, а пакость, то мало ли пакостников, плевать на них, тем паче что плащ отстирался, качественная вещь не зря дорого стоит, ее просто так не испортишь. Но подобное бодрячество тоже выглядело бы не здорово. Глупо бы выглядело, и, не исключено, Лиза бы подумала, что издевательски.
— Володя, — прервала Лиза его мучительный мыслительный процесс, — перестань стоять на пороге. Проходи в комнату. И вы, Аркадий Михайлович, — обратилась она к Казику, — тоже проходите. Только осторожно, не наступите на мокрое.
И ногой потерла по полу тряпкой, уже успевшей превратиться из ярко-желтой в бурую.
Гриневич прошел в комнату, пропустив вперед Казика не столько из приличия, сколько от неловкости. Он не знал, о чем правильно говорить, и не знал, что правильно делать. Он предупредил Лизу по телефону о визите с гостем и теперь втайне надеялся на инициативу этого гостя. В конце концов, Казик — психолог, ему в таких ситуациях гораздо сподручнее. Но тот стойко молчал, хотя до этого казался болтуном. Чего, спрашивается, молчал? Уж всяко не от смущения по поводу вечернего посещения дамы.
Казик хоть и прикусил себе язык, однако, судя по всему, никакого смущения действительно не испытывал, устроившись в одном из двух кресел и разглядывая немудреные, но вполне уютные Лизины хоромы. Второе кресло, под торшером, он явно предназначил самой хозяйке, так что Гриневичу оставалось довольствоваться либо диваном, либо стулом. Володя предпочел стул, причем задвинул его почти в самый угол.
В углу он и сидел все время, пока Казик, обретший наконец дар речи, по собственному выражению, мило общался с милой барышней Елизаветой Максимовной — задавал вопросы, выслушивал ответы, делал какие-то комментарии. По мнению Володи, ничего нового Казик не выяснил — Лиза рассказывала о том, что и так уже было известно. Володя вдруг вспомнил следователя Семена Семенович Горбунова и фильм «Бриллиантовая рука» про Семена Семеновича Горбункова: упал, потерял сознание, очнулся, гипс… Вот так примерно и выглядел рассказ Лизы — и про собачье безобразие, и про кондуит Галины Антоновны Пироговой.
В какой-то момент Володе показалось, будто Казик сейчас сболтнет про записку, про маленькую стерву, с которой надо быть осторожным, и внутренне напрягся. Он не хотел говорить Лизе про записку. И даже если это очень важно — а Казик считал, что, скорее всего, так и есть, — все равно не хотел. По крайней мере сейчас. Нельзя на человека вываливать разом целую кучу дерьма — опять же и в прямом, и в переносном смысле.
Казик, однако, промолчал, лишь поинтересовался: есть ли у Лизы в школе какой-нибудь враг?
— Не думаю, — ответила Лиза почти мгновенно.
— А если подумать?
Лиза нахмурила брови, сняла с носа очочки, повертела их в руках, вновь водрузила