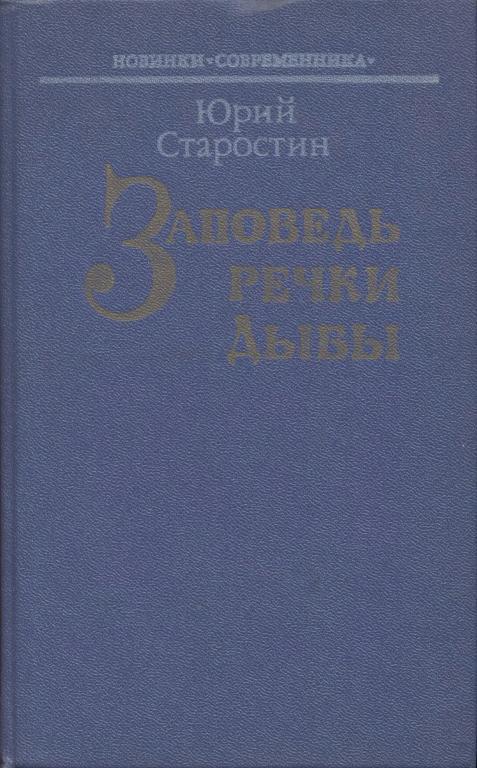Павел, выяснилось: в нашем институте есть студенты, нарушающие обычаи экзаменов! Предлагаю разобрать на партбюро со всей строгостью! Жаль, хлопцы!
Свиридов, отрывистым своим голосом разговаривавший в группе студентов, сухощавый, прямой, в очень плотно застегнутом новом кителе без погон, с нездорово желтым лицом, приблизился к Сергею, опираясь на палку-костылек.
— Куда вы, Вохминцев? Подождите минутку. Такой день… Разрешается пятерки отпраздновать. Что уж там!
— Ждут дома, — сказал Сергей. — Это невозможно.
Прежде, когда Свиридов преподавал военное дело, он не всегда носил китель, изредка появлялся на занятиях в черном, нелепо сшитом и неудобно сидевшем на нем гражданском костюме, но после того, как ушел по болезни в запас и стал освобожденным секретарем партийной организации, военную форму носил постоянно, именно это его упрямство нравилось Сергею: вероятно, Свиридов не мог забыть армию, в которой ему не повезло. Ему было тридцать два года, а внешне он выглядел гораздо старше — давняя желудочная болезнь высушила, источила его.
— Есть люди, — сказал Константин уже на автобусной остановке, — есть люди, которые утром вместе с костюмом надевают на себя лицо. Не замечал?
— Ты о ком?
— Вообще. Некоторые всю жизнь носят маску. Цирк! Скрывают застенчивость — развязностью, наглость — смущением, эгоизм — ложным альтруизмом… А нужно ли вообще сдирать эти маски, Сережка? Зло сразу выскочит, как поплавок из воды. А?
— Не пожалел бы половины жизни, чтобы содрать эти маски.
— Тогда в первую очередь, Сережка, сдери эту маску с себя.
— Не понял. Какого черта!
— Часто тебе приходится терпеть? Или вы уже друзья с Уваровым?
— Ты весьма наблюдателен, Костенька!
— Но вы уже два года улыбаетесь друг другу. Философия случайности? Впрочем, Уваров — первостатейный малый: пятерочник, член партийного бюро, общественник, со Свиридовым — неразлейвода. Не кажется ли тебе, что этот парень вместе с костюмом надевает на лицо улыбку? — Константин щелкнул пальцами, подыскивая слова. — Улыбочка душевного парня — одежда! Ни с кем не хочет ссориться — мил всем! Голову наотрез — идет верным путем. На улыбочки и общительность клюют все! И ты клюнул.
— Хватит.
— А что хватит? Полагаешь, он забыл, как ты ему набил харю?
— Ерунда. Не хочу сейчас об этом!.. Давай садись в автобус, едем!
…Он каждый день встречался с Уваровым в институтских коридорах, вместе сидел на партийных собраниях, вместе в перерывах курили около подоконников, и Сергей вроде бы привык к нему, смирился с этим, и уже не хотелось думать о прошлом мысль об Уварове всегда вызывала тупую усталость, и каждый раз, когда он начинал думать о нем, появлялось злое ощущение недовольства собой. При встречах Уваров был простодушно-приветлив, подчеркивал свою особую расположенность и, открыто выказывая радость, улыбался ему: «Привет, старик!» Был он неузнаваемо другим, выглядел, казалось, моложе, чем пять лет назад, на фронте, — похудели щеки, отчего обострилось, но помягчело лицо. И Сергей уже постепенно погас, притерпелся к этому новому, непохожему на того, встреченного после фронта Уварова, не было желания и сил возвращаться к прежнему, и не было той непримиримости, которую он чувствовал в себе три года назад.
Только раз прошлой зимой на студенческом собрании он, сидя позади Уварова, увидел вблизи его сильную, упрямо неподвижную шею, край пристального, в задумчивости устремленного глаза — и тогда что-то оборвалось, сместилось в душе. И вновь кольнула прежняя ненависть. Тот, видно, ощутил это внимание — шея ослабла, край голубого глаза стал покойно-улыбчив, Уваров оглянулся назад, сказал доверительно: «Старик, не болит у тебя башка от этих бесконечных собраний? Я уже готов». Сергеи молча и твердо смотрел на него, и было такое чувство, точно замешан был в чем-то отвратительном и противоестественном.
Через несколько дней это ощущение прошло.
ГЛАВА ПЯТАЯ
— Конец, Сережка, конец — сказал Константин и, перегибаясь через подоконник, вылил из графина воду на голову. — Перестарались. Я уже перенасыщенный раствор, из меня сейчас начнут выделяться кристаллы. Я на пределе.
— Абсолютно?
— Окончательно. Нет, Сережка, хорошо все-таки поживали в каменном веке — никаких тебе шахт, никаких машин, сиди, оттачивай дубину и поплевывай на папоротники.
— Кончаем. — Сергей развалился в старом кресле, устало и не без удовольствия вытянул ноги. — Да, Кость-ка, неплохо было в эпоху первобытного коммунизма. Мечтай только об окороке мамонта — прекрасная жизнь. И все ясно. Ну и духота…
Все окна и двери были раскрыты, но вечерний сквозняк слабо тянул по комнате, папиросный туман вяло шевелился под потолком.
— Все ясно! Где вы, мамонты? — Константин, дурачась, ударил учебником по столу. — Все! С этим все! Перерыв, перекур, проветривание помещения. Виват и ура! Как будем разлагаться — радиолу крутанем и по случаю жары тяпнем жигулевского пива? Или наоборот?
— Сначала к Мукомоловым — на нас обида. Встретил утром. Приглашал обязательно зайти. Ясно?
— Согласен на все.
В комнате-мастерской Мукомолова по-прежнему пахло сухими красками, холстами, табачным перегаром, по-прежнему возле груды картин, накрытых газетами, белели стойками два мольберта перед окнами (к свету), бедно жались по углам старые, покорябанные стулья, на заляпанных сиденьях повсюду валялись тюбики красок, стояли баночки для мытья кистей; была все та же аскетическая обстановка в комнате. Но странно, она не казалась пустой — со стен внимательно и отрадно смотрела иная жизнь: наивное лицо беловолосой некрасивой девочки с большим ртом и удивительно умными, мягкими глазами; рядом — знойный лесной свет солнца сквозь листву берез; первый снег в московском переулке, на снегу грязный след проехавшей машины; луговая даль после дождя. Сергея поражало это противоречие, несоответствие запущенности мукомоловской мастерской с полнозвучной жизнью картин, неужели здесь, в комнате, жили лишь начерно, а на стенах — набело, ярко, счастливо?
Когда они вошли, Мукомоловы сидели при свете настольной лампы на диване, Федор Феодосьевич занимался тем, чем обычно занимался по вечерам, — сопя, подобрав под себя ногу, набивал табаком папиросные гильзы; Эльга Борисовна вслух, ровным голосом читала газету, то и дело поправляла черные, с проседью волосы, падавшие на висок.
— Эля! Кто к нам пришел! Ты посмотри — Сережа, Костя! Эля, Эля, давай нам чай! — Мукомолов вскочил, смеясь, долго двумя руками тряс руки Сергею, Константину. — Эля, Эля, Эля, посмотри, кто к нам пришел! Ты посмотри на них!
— Очень рада вас видеть, Сережа и Костя, — со слабой улыбкой проговорила Эльга Борисовна, свернула газету, сунула ее куда-то на полочку; смущенно запахнула мужскую, очень широкую на ее маленькой девичьей фигурке рабочую куртку, запачканную старой краской на рукавах. — Я одну секундочку… Только поставлю чай.
— Ну зачем беспокоиться, — сказал Сергей.
— Садитесь, садитесь на диван, садитесь! Вот коробка с папиросами, это