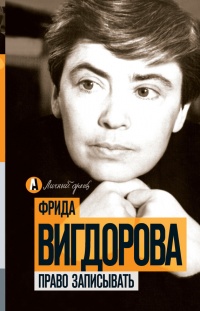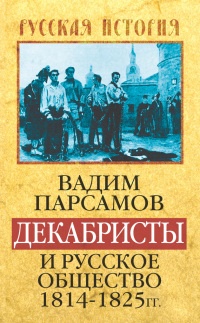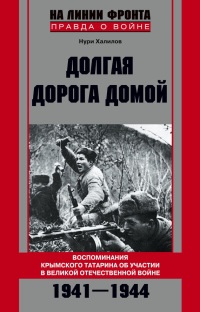Всех, кого я с этого лета считаю лучшими своими друзьями, отличали именно такт, воспитание и какая-то пластичность. Тут уж ничего не поделать, если человеку их не дано. Тут уж не спасут ни социологи, ни амбивалентности, ни аномии, ни фрустрации. Мои друзья не наводили вокруг меня панику, не создавали ЧП, не делали прогнозов, не ставили ставок, не накладывали на меня своих мерзостных проекций, не анализировали мою личность, грозящую вправду истаять, не давали важно-философских советов. Они просто были со мной, со мной переживали данную жизненную ситуацию, стараясь мне в ней помочь, а именно: верили мне, помогали мне, отвлекали меня, старались всегда меня развеселить.
С ними связаны хорошие дни этого периода, а были хорошие дни. Первый день был 6 июня, когда мы отметили законное бракосочетание Виктора Ильича Божовича и Нелли Гаджинской. Это был наш первый подписантский брак, а уже осенью поженились Ирка с Ленькой Пажитновым, подло замотав свадьбу. 8 июня мы с Леней Зориным были «шаферами» и вместе с Ритой везли нашу «невесту» в Красногвардейский загс, где весь в мятой рубашке-апаш и драных босоножках ожидал «жених». Комедия! Ничего, Нелька теперь его приодела. Он у нас теперь как Марлон Брандо ходит.
7 июля у нас, подписанцев, родился наш первый ребенок — сын Лени Седова и Нади Аникановой. Надюшка оказалась единственной из всего человечества, способной к деторождению и — во дает! — к скоростному деторождению.
День был замечательный, воскресенье, яркое солнце, Переделкино. Навалило народу. Приехал Леня с ребятами и сообщил, что Надюшку ночью увезли в родильный дом в Сетунь. К 6 часам он должен был туда поехать и узнать, как она. Все волновались, носились, какие-то машины, люди, питье. После мы мчались в Сетунь на такси, и за нами вдогонку несся Витя Щипачев на своей машине, вынырнувшей из-за поворота. Мы их, конечно, не пустили вперед, таксист постарался. Приезжаем. Надька уже родила! И как лихо! И тут же записочку Леньке и нам всем. Дом желтый, провинциальный, все кричат в окна. Леньке Надьку показали. И мы в кафе «Сетунь» дернули коньяка и шампанского за новорожденного и его маму. Было весело и чудесно.
Все Переделкино переживало. Андрей Вознесенский прокричал со сна, что примета очень хорошая, день рождения Рильке, мальчик будет поэтом. Все требовали везти их срочно в Сетунь — так я эту «Сетунь» расписала, но мы поехали потом не в Сетунь, а в шикарный СЭВ — там тоже было хорошо. Все мы хотели, чтобы Ленька назвал мальчика Борисом, раз ему суждено быть поэтом в память Рильке[39]. Рильке, Пастернак, Переделкино, поэты, и мальчик будет Борис Леонидович — все очень складно. Но Леня не захотел и назвал его Павлом. Теперь я очень рада. Если бы у меня родился мальчик, я бы тоже назвала его Павлом, Константином или Вадимом. Девочку я бы, конечно, назвала Ларисой[40].
Мой день рождения мы справляли тоже весело, хотя целый день шел дождь. Вообще весь кусок Переделкина был неожиданно хорош, хотя классики и массажистки вокруг угнетали.
Когда я думаю о том, почему с одними людьми в те месяцы было так хорошо, а с другими — невыносимо, у меня смутно намечается какой-то водораздел (я имею в виду категории чисто моральные, бытовые), хотя сформулировать различие я пока еще не умею. Приведу пример, может, он поможет.
У меня и у Люды есть две аспирантки, приятельницы, грузинки, хорошие девушки, вроде бы к нам очень привязанные. Моя аспирантка примчалась ко мне из Тбилиси, клялась в верности, говорила речи, в частности, беспрестанно повторяла мне и всем вокруг, что ни за что не снимет мое имя (я научный руководитель) с титула диссертации и реферата, пусть лучше останется без кандидатской степени. Все лето и всю осень она «вентилировала» это — с Фрейлихом, с Гинзбургом, с парторгом, не знаю с кем, и всем что-то излагала. Идея о возможности снять меня с титула принадлежала лично ей — никто ничего подобного от нее не требовал просто потому, что дирекция института и сектор сразу же заявили в райкоме, что, дескать, Зоркая аспирантами никогда не руководила и не руководит (боже мой! погонные километры Ахророва, Ашимова, Ашарова, Кашарова, туркменский, чеченский, эвенкский кинематограф — все проходило через мои бедные руки). Мое руководство ее диссертацией было прочно замято, а защита пока не предполагалась. Однако героическая аспирантка вертела интригу и паниковала до последнего предзащитного дня — очень уж за меня волновалась.
Людина аспирантка прилетела из Тбилиси и узнала, что та исключена. Рассказывают, что она плакала в институте так, что ее отпаивали. Потом она быстро вытерла слезы, схватила всякие вкусные бадриджаны и лобио, которые всегда возит из дому, села на такси и приехала к Люде с самой веселой улыбкой. Она рассказала последние тбилисские новости и сплетни, попутно сбегала в магазин мне за продуктами и всучила Люде главу своей диссертации, только что созданную ею. Ни о каких снятиях с титулов, ни о каких возможных для нее неприятностях никогда она ни словом не заикалась. Ей бы просто не могла прийти в голову идея, что при каких бы то ни было условиях она снимет с титула Людмилу Ивановну. Ее зовут Тата Твалчрелидзе, добрейшая, прекрасная девочка.
В том-то и дело. Люди делились не только на порядочных и непорядочных, смелых и трусливых, принципиальных и беспринципных. Они делились еще на тех, кто, как вскрылось, целиком и без остатка поглощен обществом, в котором он живет, полностью втянут в его машину, и тех, у кого еще осталась душа и личность. Потому-то первые олицетворяли собой кампанию, неважно, со стороны «за» или со стороны «против». Они вертели, крутили, интриговали, обосновывали, били тревогу, запугивали нас, агитировали, ныли, психовали, исходя из одной предпосылки: что мы стоим на пороге гражданской смерти, равнозначной смерти вообще. Вторые только потому сумели по-настоящему нам помочь, нас поддержать, быть нам друзьями, что мы сами для них не изменились, не утратили ценности прежней, не приобрели ценности новой. Мы были мы, а кампания была где-то там, наших с ними отношений не касалась.
В конце апреля в дом ворвалась Аллуся, оснащенная гигантской авоськой и гремя банками благоухающих домашних компотов. Она, конечно, пробивалась с самого начала, но Рита ее не пускала, потому что народу очень много. Вся та мура про какой-то зеленый лук, хозяйство, плиту, харчи и «домашнюю бабу», которую она постоянно плела последние годы, сильно затрудняя с собой общенье, показались мне на сей раз райской музыкой. Парфаньяк дело делает: нечего в таких случаях анализом заниматься, надо тащить компот. Натуральный и добрый человек.