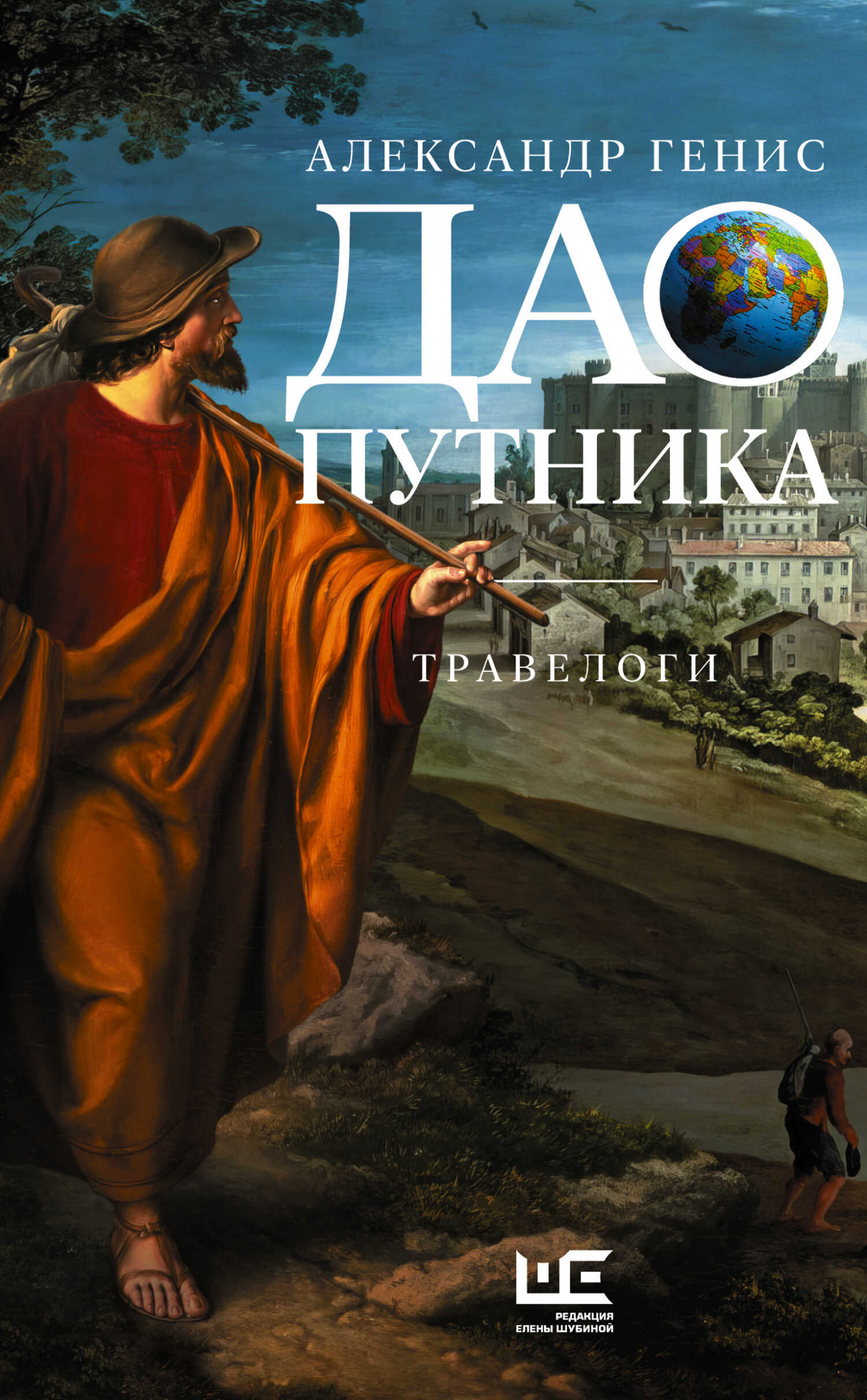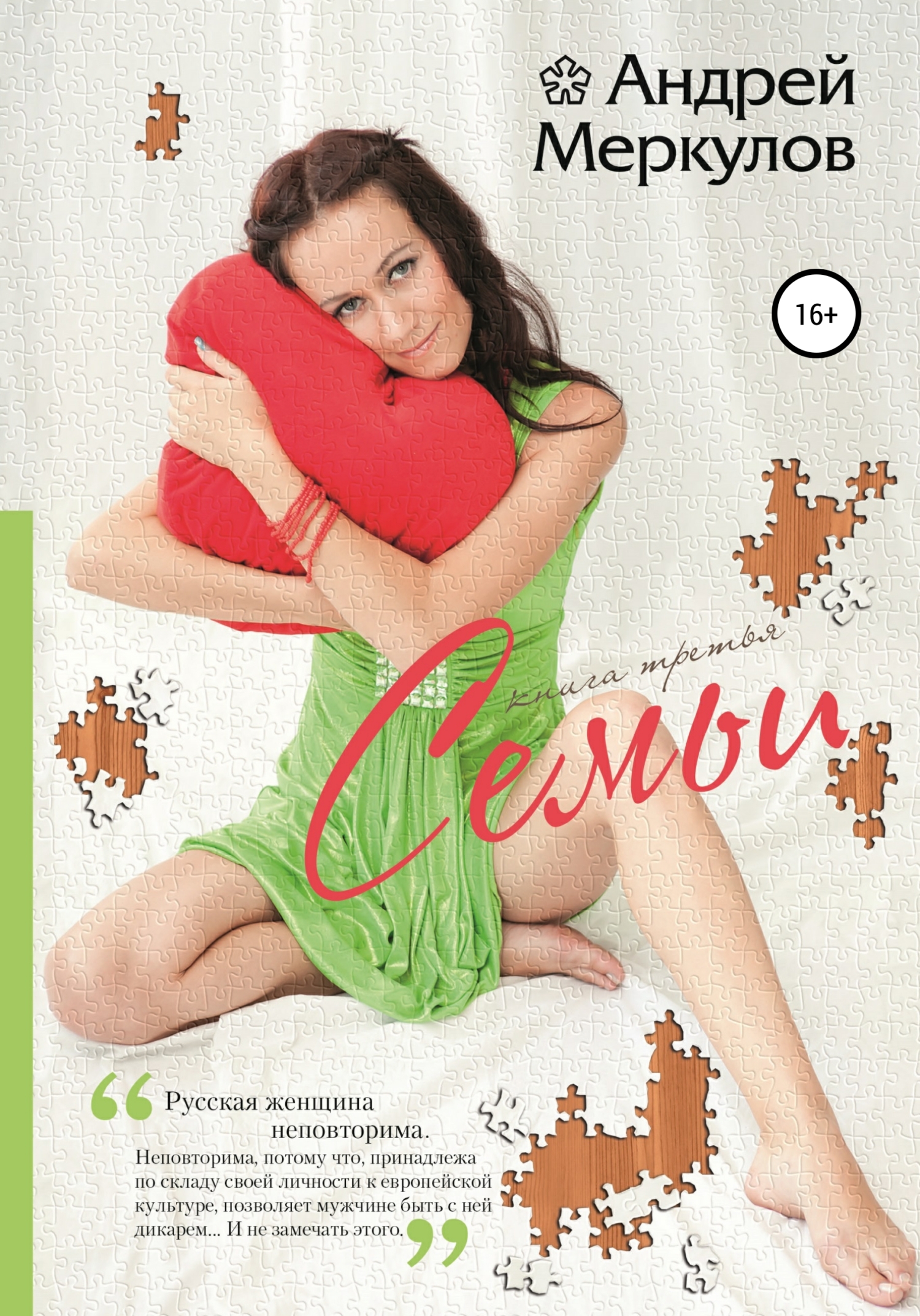всегда ее буду любить.
— Ну, душа моя, жаль мне тебя, а дело это конченое! Она будет любить не тебя, которого она не знает, а Щетинина, за которого она боится, и потом, душа моя, Щетинин князь, богат, хорош, человек светский и влюбленный, а ты что?.. Поезжай себе: ты ни для графини, ни для Щетинина, ни для повестей светских, ни для чего более не нужен… Поезжай на Кавказ, а я покуда отправлюсь на Волкове поле, где противники наши, чай, бесятся на морозе.
— Послушай, — сказал Леонин, — скажи Щетинину, что я беру свой вызов назад, что я прошу извинения, что я не хочу стреляться… Скажи ему что хочешь. Да пожелай ему счастья с той, которую я вечно буду любить.
Прощай же, Сафьев! Спасибо за твою язвительную дружбу; она лучше светской ласковой ненависти. Я не ворочусь более никогда в Петербург! что мне делать в Петербурге? Если увидишь Надину, скажи ей, что там, далеко, есть человек, который готов за нее умереть… Да нет, не говори ничего… ничего не говори… решительно ничего. Прощай… Тебя ждут. Прощай, Сафьев.
Сафьев молча пожал у Леонина руку и бросился в коляску.
На дворе уже было светло.
Леонин не говорил ни слова. Долго стоял он пред бабушкой своей. Оба потупляли глаза, оба молчали, и вдруг, по внезапному стремлению, старушка и юноша бросились в объятия друг друга…
XV
55-е представление, в котором будет участвовать г-жа Тальони.
Афишки
В тот самый день, вечером, Тальони танцевала в Большом театре: давали новый балет — случай в Петербурге торжественный, Светская фешен, по праву своему присутствовать на первых представлениях, наполняла ложи и кресла. Всюду перья, шляпки, обнаженные плечи, блестящие лорнеты, и общий говор, и поклоны, и киванья из лож в кресла, из кресел в ложи. В воздухе было что-то праздничное; все наряды были наряднее, а толпа гуще, чем когда-нибудь. Все известные вельможи упирались на перила оркестра и разговаривали меж собой, отвечая от времени до времени почтительным поклонам из третьего и четвертого ряда кресел. Все обычные посетители театра были в белых галстухах и казались озабоченнее обыкновенного, перебегая от знакомого к знакомому, как будто виновники или участники в ожидаемом зрелище. Капельдинеры суетились около кресел, и последние пустые ложи первого яруса наполнились после предисловного акта русской оперы, которую слушают одни лишь помещики, приехавшие из деревни, да дети, наклоненные над ложей подле гувернера в очках.
В одной из лож первого яруса сидела, с брильянтами на голове, новобрачная Кривухина, еще недавно пленявшая Коломну под именем мамзель Армидин. Подле нее униженно ежился начальник отделения, с Анной на шее, а между ними, в желтых перчатках, красовался известный нам господчик, который шутил и любезничал как можно громче, надеясь навлечь внимание зевак и выказать себя в первом ярусе лож, подле женщины в брильянтах. Рядом с ложею г-жи Кривухиной сидела графиня Воротынская, всегда пышная, всегда дышащая каким-то невыразимым ароматом щегольства и женской миловидности. Она бросила самую обворожительную улыбку толстому генералу, стоящему у первого ряда кресел, за что обрадованный генерал с рыцарским подобострастием и значительной улыбкой наклонил к ней свою главу.
В ложе графини переменялись ежеминутно молодые франты в мундирах и в желтых перчатках, которые несли светский вздор, спрашивали, зачем сестры графини не было в театре, и шепотом говорили меж себя, что, по дневным слухам, уже помолвили ее за князя Щетинина.
Графиня отвечала полуответами, поправляя свои воздушные рукава и оборачиваясь, чтоб небрежно наводить двойной лорнет свой на ложи и разбирать женские наряды своих дружеских соперниц. О Леонине ни слова, ни ползвука; жив ли он был, пропал ли, — куда пропал, зачем пропал — никто о том не спрашивал: Леонин был человек слишком ничтожный, чтоб обратить внимание света.
О поединке никто не знал, и никому не было надобности ни узнать, ни рассказывать о нем. Графиня казалась веселою и беззаботливою по обыкновению. Но опытный наблюдатель, по невольному движению ее бровей, легко мог заключить, что ее беспокоило какое-то нестерпимое преследование. И точно: в шестом ряду кресел, с пальцем, задетым за жилет, с вечной улыбкой, стоял Сафьев и неутомимо преследовал графиню своим пронзительным и обнажающим взором. Она чувствовала себя прикованною к магнетическому влиянию неподвижного взгляда, который высказывал насмешку, упрек и ненасытное мщение. Граф скрылся за пышным тюрбаном своей жены, уступив место с ней рядом какому-то важному сановнику. Но вот в театре волнение утихло, оркестр загремел, и балет начался. Публика ожила… Вдруг из боковой кулисы выпорхнула наша воздушная гостья с тамбурином в руках, легкая, как пух, не касаясь земли, порхнула она в три прыжка кругом сцены и вдруг остановилась и приветствовала своих северных поклонников. Толпа, безмолвная дотоле, вдруг встрепенулась, оживилась, и гром рукоплесканий, как бурный поток, разразился громче и громче и потряс своды театра. Все взоры засверкали, и все чувства помолодели, и, как бы оживляясь общим восторгом, Гитана приударила в тамбурин и понеслась резво и весело, то гордо расправляя руки, то как будто изнемогая под сладким бременем неги стыдливой и непонятной…
В это самое время на московской дороге, за Ижорою, тянулась бедная кибитка, при грустном жужжании колокольчика. На облучке сидел денщик, печально повесив голову. В кибитке лежал офицер.
Ночь была темная. Ветер выл по гладкой равнине, вздымая снежную метель, ослеплявшую путников. Лошади едва передвигали ногами. Мрачно было в природе, мрачно было в душе офицера. Он лежал и думал.
Он думал, что ни за что схоронил заживо свою молодость; он думал, что в Петербурге осталась, и не для него, та, которая рождена была для него, та, которую он сам рожден был любить… Чем более он удалялся, тем более им овладевала мысль о Наденьке. Чувство, которое в нем рождалось к ней, не было мелочное, честолюбивое и взволнованное, как любовь его к графине, не было жеманное, как отношение его к Армидиной: оно было тихое, смешанное с глубокой грустью, с сознанием утраты невозвратимой, и в то же время в нем была какая-то мучительная отрада. Таково должно быть впечатление слепого, когда он чувствует, что воздух чист и благоуханен, что солнце греет, и догадывается только, что небо должно быть лазурно и необъятно хорошо. Образ Наденьки, как горестный упрек, врезывался все более и более в воображение молодого человека. Мыслью он был прикован к Петербургу…
А в Петербурге на его квартире, всю ночь горела свечка перед образом. Дрожащий свет, отражаемый золотистым окладом, тускло освещал исхудалую старушку в черном длинном